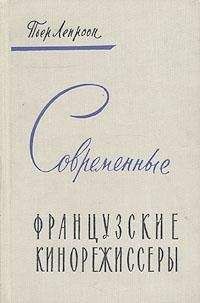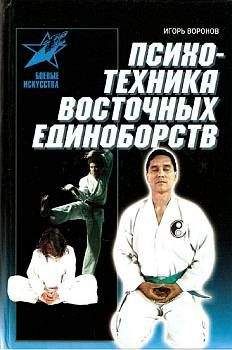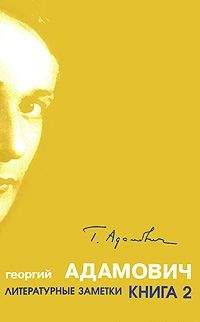Георгий Адамович - «Последние новости». 1934-1935
* * *
Насчет того, какой Бунин мастер в описаниях природы, кажется, все сказано.
Не помню, однако, заметил ли кто-нибудь, что при несомненном своем творческом «мажоре», которому не противоречит, конечно, безотрадная грусть некоторых полотен, вроде «Деревни» (грусть тут не в авторе, — она как бы «объективна»), при явном здоровье и крепости своей творческой натуры, Бунин по-настоящему оживляется лишь в отражении природы пронзительно-меланхолической, со следами тютчевской «возвышенной стыдливости страдания…» Да, он великолепно опишет какую-нибудь весеннюю ночь с соловьями и ландышами, с ароматами и трелями, с желанием все в себе вместить и во всем раствориться. Еще лучше — знойный летний полдень. Но, читая это, думаешь: «как хорошо», — и переворачиваешь страницу. Единственность Бунина как художника вполне открывается лишь после какой-нибудь одинокой прогулки по сквозному, голому лесу с холодновато-бледной синевой над ним или проливного дождя, вторящего митиному отчаянию. Природа сочувствует человеку — или как бы ищет сочувствия у него. Это уже не «равнодушная природа», сияющая «вечной красотой». И не лермонтовские «торжественные и чудные» небеса, над кем-то, кому «больно и трудно»… Это — слияние, соединение, продолжение одного в другом. Картины яркие и гармонические меньше удаются Бунину не потому, чтобы они меньше вдохновляли его, нет, а потому, что ему в них труднее найти отзвук теперешней, почти всегда «ущербной» человеческой души. В них не налаживается диалог. Человека Бунин всегда ищет, но, в противоположность большинству теперешних писателей, не приступает к нему сразу, а идет издалека, снизу — от безмолвных, вечных, сонных жизненных пластов. Ему чужд человек, вырванный из лона бытия, ему нужен мир с человеком в центре его. Оттого, может быть, само собой получается, что оживление приходит, когда язык природы нам ближе и доступнее.
Слово «описание» в применении к Бунину не совсем точно. Про другого художника — даже очень крупного, как, например, Тургенев — можно сказать, что он изображает людей вперемежку с описаниями природы. У Бунина человек и природа представляют собой как бы острие и основание одной и той же сущности.
Кстати: перечтите «Соседа», самый пленительный из коротких рассказов, написанных в период перед «Митиной любовью»! В нем согласие внешнего и внутреннего таково, что уже не знаешь, где кончается одно, где начинается другое.
* * *
Недавно один из исследователей Чехова — М. Кур-дюмов, в книге «Сердце смятенное», — высказал взгляд, что писатель этот был «пророком русской революции». В добавление и, отчасти, в качестве поправки к этому мнению, можно было бы сказать, что всякий большой русский художник, большой русский поэт последних десятилетий неизбежно должен оказаться — и был на самом деле — таким «пророком». Как могло быть иначе? Разве не жила вся Россия этим предчувствием, и разве человек, хотя бы и далекий от общественных вопросов, но сколько-нибудь чуткий, мог не ощутить близости каких-то трудно-предотвратимых потрясений? «Невиданные перемены, неслыханные мятежи», — восклицал Блок. Мимоходом, в связи с Блоком: не был ли весь наш символизм, в целом, с его трепетом и музыкой, так, в сущности, и оставшейся невыраженной и невоплощенной, с его смутными ожиданиями, с его «тайной», в которой было и шарлатанство, но было и что-то подлинно-жуткое, захватившее людей внутренно-честных и духовно-значительных, — не был ли символизм, со всеми его туманами, жизненно-беспомощным, но поэтически действенным предвидением революции, как реальнейшего и грозного факта в истории России? Не в этом ли все дело, все оправдание или даже обоснование его? «Чего-то» ждали, не умея назвать, — но ведь, надо сознаться, «что-то» и случилось, превзошедшее по размерам все гадания. Это особая и большая тема, об этом когда-нибудь в другой раз.
«Деревня» сейчас, через двадцать пять лет после того, как она была написана, поражает предчувствием революции и какой-то своей исторической правдивостью. Бывает, что автор сам не знает, что он накликает, что он зовет: так, может быть, Бунин отказался бы от тех выводов, которые для повести его естественны. Но носятся в ней такие бури, звенит такое безысходное отчаяние, и заложено столько взрывчатых веществ, что, читая «Деревню» теперь, невольно спрашиваешь сам себя: «могло ли все это разрешиться благополучно?» — и надежды на это проблематическое «благополучие» с каждой страницей становится все меньше. «Так что же нам делать?» — вот вопрос, который как бы стоит эпиграфом над «Деревней». «Так что нам делать?» Разум может подсказывать любые ответы, как, вероятно, подсказывал он их в свое время и Бунину: но чутье поэта смутно возражает, что советы опоздали, что изменить уже ничего нельзя. Я не строю сейчас, post factum, никаких исторических теорий, — дело это легкое и пустое, — я лишь передал впечатление, оставляемое «Деревней». Впечатление похоже на ощущение катастрофы или проигрыша. Проиграли Россию. Вероятно, это же почудилось в «Деревне» и четверть века тому назад, — и это-то вызвало бесконечные толки об излишнем пессимизме, даже о клевете. Бунин мог оказаться не прав, мог ошибиться: тогда бы торжествовали те, кто утверждал, что он «сгустил краски». Но к несчастью, случилось, что он не ошибся, — и то, что могло обернуться тяжким бредом, оказалось вещим сном.
ДВЕ ПЬЕСЫ ГОРЬКОГО
Стоило бы для курьеза составить букет из отзывов советской печати о двух последних пьесах Максима Горького — «Егор Булычов и другие» и «Достигаев и другие».
Если я этого не делаю, то лишь потому, что такого рода «курьезы» в однообразии своем всем уже, кажется, надоели. Известно, что Горький — по официальной, общеобязательной, московской оценке — неслыханно гениален, небывало велик и глубок. Известно заранее, что каждая написанная им страница — перл мудрости и художественного мастерства. О двух его пьесах, — в особенности о «Егоре Булы-чове», обошедшем все советские сцены, — критики говорили и говорят в таких выражениях, которых едва ли когда-нибудь удостаивались Эсхил с Шекспиром. Актеры, по многочисленным их заявлениям, испытывают радостный трепет и творческий восторг, едва только приступают к репетициям. Публика охвачена еще до поднятия занавеса религиозным экстазом. Простые читатели и те не только читают и перечитывают «Егора Булычова», но и, объединившись в кружки, «прорабатывают», по утверждению газеты, каждый эпизод, каждую реплику.
Не будем на всех этих нелепостях слишком долго задерживаться. Они не только малоинтересны сами по себе, но и способны сбить с толку всякого, кому обостренная впечатлительность мешает иногда быть беспристрастным. «Угол падения равен углу отражения». Если для большевиков Горький гений, то он механически становится тупицей и бездарностью у нас; если в Москве он классик, то для эмиграции не только враг (что понятно и естественно), но и посмешище. Еще совсем недавно я получил письмо, автор которого, довольно известный беллетрист, брался документально доказать, что бывший буревестник «глуп, как пробка, и безграмотен, как сапожник» (цитирую дословно)… Конечно, к Горькому отнестись «объективно» теперь нелегко, — даже и как к художнику. Одной его чудовищно-малодушной речи на недавнем писательском съезде было бы достаточно, чтобы навсегда закралось в сознание подозрение насчет этого художества, — ибо если «гений и злодейство две вещи несовместные», то ведь и вообще искусство, даже и не гениальное, требует все-таки какой-то меры в сделках с совестью, иначе, — что такое искусство? Иначе, — как можно говорить о его возвышающем или объединяющем влиянии? Откуда волнение в ответ ему, если в его основе только холодный, хитрый расчет? Да, правда, «пока не требует поэта…» Но Аполлон едва ли принимает жертвы тех, кто сознательно надеется на это удобное разделение, и нравственно-порочное искусство должно, в конце концов, оказаться порочным и эстетически. Однако эти соображения проверить придется только много позднее, в будущем, при оценке всей деятельности Горького и всего его творчества. Теперь постараемся читать так, чтобы «взгляд не был чувством затемнен». Этого следует добиваться, прежде всего, в наших же собственных интересах: близорукость или слепота никогда никому на пользу не шли, — а лжи довольно и там, на той стороне, чтобы мы еще стремились внести в эту богатейшую сокровищницу и свою лепту.
«Егора Булычова», как и «Достигаева», нельзя назвать ни драмой, ни комедией. Действие в этих пьесах развито очень слабо: автор явно им пренебрегает, хотя не ищет и «настроения», наподобие Чехову. С драматургической, театральной точки зрения, пьесы представляют собой черновик, в котором еще почти ничего не построено, хотя материал уже весь дан… Но это не Бог весть какая беда, в особенности для читателя, а не зрителя. (В вахтанговском театре в Москве «Егор Булычов» был оживлен несколькими вставными сценами, — очевидно, именно по зрелищно-сценическим соображениям.) Даже в своем сыроватом состоянии обе горьковские пьесы все-таки гораздо ярче и значительнее всех тех трагедий и драм, комедий и водевилей, которые выходили в последние годы из-под пера советских писателей. Это надо признать сразу: Горькому очень далеко до Эсхила, но Киршону или Вишневскому до него — еще гораздо дальше. Помимо того, что у Горького в каждой фразе видна опытная, умелая рука, есть у него и другое, огромное преимущество перед любым советским драматургом: ощущение сложности жизни, способность рисовать человека, наделенного противоречивыми, неожиданными, неповторимо-индивидуальными чертами, необъяснимыми никакой «классовой прослойкой». Это свойство особенно важно. От советских пьес неизменно остается впечатление, что «они какие-то голые» (замечание Льва Толстого о стиле пушкинской прозы). Голые, — главным образом, психологически: есть типы, но нет людей. Упрощенный, плохо переваренный марксизм и, вероятно, опасение, чтобы реализм не оказался недостаточно-«социалистическим», приводят драматургов к тому, что у них действуют и движутся лишь схемы человека, тени человека. Даже у самых даровитых, как, например, Катаев, даже у самых умных, как, например, Юрий Олеша, одушевление производится призрачно и механически, путем одной какой-нибудь остроумно-найденной детали, одного характерного словечка, — но плоти, крови, запаха, звука жизни нет и у них. (У Катаева все-таки этого больше, чем у других, — хотя характерно, что и он, к концу своей талантливо-пустяшной «Дороги цветов» срывается, в сцене с шубой, в явный гротеск, неправдоподобный и резкий, будто сцена из Гофмана в натуралистическом романе: значит, с самого начала что-то было неладно, если так легко в этой комедии нравов роли переходят к марионеткам.) Горький часто заслоняет жизнь бытом. Оттого в его «Булычове» или «Достигаеве», как, впрочем, во всем его творчестве, есть что-то невыносимо-грузное, тяжкое, мешающее дышать: его люди почти всегда слишком «мясисты», увесисты, и даже имена и фамилии он им выбирает какие-то стопудовые, ухающие, рыкающие… Но все-таки это подлинный, истинный реализм, а не раскрашенная в «настоящие» цвета условно-фантастическая картинка. Пусть этот реализм не очень далеко идет вглубь, пусть он для человека и его достоинства оскорбителен в своей животности (несмотря на голословное и заносчивое: «человек — это звучит гордо»), все-таки он отвечает чему-то, что действительно есть, а не выдумано. Когда советские писатели, небывалые в нашей литературе «выдумщики» и «планщики», рекомендуют друг другу заняться «учебой у Алексея Максимовича», они, конечно, в глубине сознания именно это имеют в виду: знает кошка, чье мясо съела, знает и каждый пишущий человек, что у него