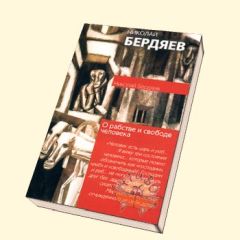Николай Ульянов - Скрипты: Сборник статей
Он сообщает, что чем больше он размышляет об истории, тем яснее ему становится, что поляки – разложившаяся нация (nation fondue). «Ими приходится пользоваться лишь как средством, и лишь до тех пор, пока сама Россия не переживет аграрной революции. С этого момента Польша теряет всякое право на существование». Выходит, что как только в самой России найдена будет разрушительная сила – гордого лебедя революции можно будет загнать в общеславянский курятник. Поражает в этом письме чисто национальное презрение, возникшее не под влиянием минуты, а выношенное, отстоявшееся. «Никогда поляки не делали в истории ничего иного, кроме как играли в храбрую и задорную глупость». «Бессмертна у поляков наклонность к распрям без всякого повода». И, наконец, «нельзя найти ни одного момента, когда бы Польша, хотя бы против России, с успехом явилась [142] представительницей прогресса или вообще сделала бы что-либо, имеющее историческое значение. В противоположность ей Россия, действительно, олицетворяет прогресс по отношению к Востоку». Энгельс находит в России гораздо больше образовательных и индустриальных элементов, чем в «рыцарственно-бездельнической Польше». «Никогда Польша не умела ассимилировать в национальном смысле чужеродные элементы. Немцы в польских городах есть и остаются немцами. А как умеет Россия руссифицировать немцев и евреев, тому свидетельство – каждый русский немец уже во втором поколении». Он отмечает лоскутный характер бывшего польского государства. «Четверть Польши говорит по-литовски, четверть по-русински, небольшая часть на полурусском диалекте, что же касается собственно польской части, то она на добрую треть германизирована». Энгельс благодарит судьбу, что в «Новой Рейнской газете» они с Марксом не взяли на себя в отношении поляков никаких обязательств, «кроме неизбежного восстановления Польши с соответствующими границами». Но тут же добавляет: «лишь под условием аграрной революции в ней. А я уверен, что такая революция скорее вполне осуществится в России, чем в Польше».
Нет сомнения, что меньше чем за три года Маркс и Энгельс утратили надежду на антирусское восстание поляков и потеряли к ним всякий интерес. Это не значит, что отказались «посылать их в огонь», то есть подбивать на дальнейшие бунты против России, но радикального средства в этих бунтах уже не видели. Энгельс убежден, что «при ближайшей общей завирухе вся польская инссурекция ограничится познанцами и галицийской шляхтой плюс немногие выходцы из Царства Польского, и что все претензии этих рыцарей, если они не будут поддержаны французами, итальянцами, скандинавами и т.п. и не будут усилены чехословенским мятежом, – потерпят крушение от ничтожества собственных усилий. Нация, которая в лучшем случае может выставить два-три десятка тысяч человек, не имеет права голоса наравне с другими. А много больше этого Польша, конечно, не выставит».
Маркс, хотя и не в столь ярких выражениях, соглашался с Энгельсом. Он поспешил отказаться от своей прежней готовности восстановления Польши в границах 1772 года, ибо рассудил, что немецкую Польшу, с городами, населенными [143] немцами, не следует отдавать народу, который доселе еще не дал доказательства своей способности выбраться из полуфеодального быта, основанного на несвободе сельского населения». Он и от Лассаля получил заверение в полном согласии с такой точкой зрения: «прусскую Польшу следует рассматривать как германизированную и относиться к ней соответственно».
В случае войны с Россией, Маркс готов компенсировать полякам потерю Познани щедрым присоединением земель на Востоке, обещает им Митаву, Ригу и надеется на их согласие «выслушать разумное слово по отношению к западной границе», после чего они поймут важность для них Риги и Митавы в сравнении с Данцигом и Эльбингом. Самые восстания польские мыслимы только против России. «У меня был один польский эмиссар, – пишет он Энгельсу в 1861 году: – вторичного визита он мне не сделал, так как ему, конечно, не по вкусу пришлась та неприкрашенная правда, которую я преподнес относительно плохих шансов всякого революционного заговора в настоящий момент на прусской территории».
Прекрасное резюме этому комплексу настроений дал Энгельс в цитированном выше письме, сделав набросок марксистской тактики в польском вопросе. «На Западе отбирать у поляков всё, что можно, оккупировать немецкими силами их крепости под предлогом защиты, в особенности Познань, оставить им занятие хозяйством, посылать их в огонь, слопать (ausfressen) их земли, кормя их видами на Ригу и Одессу, а в случае, если можно будет вовлечь в движение русских, – соединиться с этими последними и заставить поляков примириться с этим». Под «русскими» разумеется, в данном случае, не царская, а революционная Россия.
* * *
Итак, поляки лишь «сгоряча» и по тактическим соображениям причислены были к «историческим» народам. Под конец жизни, интерес Маркса к полякам пропал, уступив место восторгу перед народовольцами-террористами.
Именно перед народовольцами, а не перед чернопередельцами, из которых вышли потом последователи Маркса [144] в России. Их он не жаловал за то, что «эти господа стоят против всякой революционно-политической деятельности», тогда как он приветствовал и всячески ласкал террористов. Вот что рассказывает Эдуард Бернштейн о приеме, оказанном Марксом народовольцу Гартману. Молодой в то время, Бернштейн был уже почитателем Маркса и тоже был им принят довольно ласково. «Однако же, – говорит он, – при наших беседах всегда сохранялось между нами известное «расстояние». Совсем иначе стояло дело между Марксом и Львом Гартманом, явившимся в Лондон летом 1880 года. Я был просто поражен, видя, как этот великий мыслитель, а также Энгельс, обращаются совсем по-братски, на ты, с молодым человеком, который производил на меня впечатление умственной посредственности и бесцветности». «По-видимому, – заключает Бернштейн, – их дружеское расположение к нему вызывалось исключительно его участием в террористическом предприятии».
Известно, что Маркс презрительно отзывался о возможности революции в России. В ней «может быть только тот или иной бунт, причем достанется немецким платьям, а революции никакой и никогда не будет». Так говорил он в 1863 году. Он искренне удивлялся своей популярности в этой стране; нигде его так не чтут и не издают, как в России, которую он усердно оплевывал, революционных деятелей которой глубоко презирал и чуть не поголовно считал царскими агентами. И вот этот человек в конце 1881 года провозглашает: «Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе». Совершенно очевидно – не рост промышленности, не рост пролетариата, не «идейная зрелость», которых еще не было, даже не крестьянские волнения подвигли его на такое заявление, а убийство Александра II, шумная деятельность кучки террористов. Он приходил в восторг от того, что им удалось превратить нового царя в гатчинского военнопленного революции.
Разумеется, не благо русского народа, даже не судьбы русской революции занимали его, а уничтожение самодержавия, представлявшегося ему тормозом европейской революции. Не сумели его уничтожить поляки – прочь поляков, да здравствуют Желябовы и Перовские!
Но после всего сказанного о поляках ни минуты не [145] верится в искреннюю «революционную» симпатию его к Желябовым и Перовским. Он их ценил как роботов революции, но ненавидел как русских.
Рискуя загромоздить изложение иллюстрациями, не могу не привести рассказ Герцена. В Лондоне, в Сент-Мартинс Холле, 27 февраля 1855 года состоялся митинг в воспоминание о 24 февраля 1848 года, на который приглашен был в качестве оратора и Герцен. Избран он был также членом международного комитета. После этого получено было письмо от какого-то немца, протестовавшего против его избрания. Немец писал, что Герцен известный панславист и требовал завоевания Вены, которую называл славянской столицей. «Это письмо, – говорит Герцен, – было только авангардным рекогносцированием. В следующее заседание комитета Маркс объявил, что он считает мой выбор несовместным с целью комитета и предлагал выбор уничтожить. Джонс заметил, что это не так легко, как он думает; что комитет, избравши лицо, которое вовсе не заявляло желания быть членом, и сообщивши ему официальное избрание, не может изменить решение по желанию одного члена; что пусть Маркс формулирует свои обвинения и он их предложит теперь же на обсуждение комитета. На это Маркс сказал, что он меня лично не знает, что он не имеет никакого частного обвинения, но находит достаточным, что я русский и притом русский, который во всем, что писал, поддерживает Россию; что, наконец, если комитет не исключит меня, то он, Маркс, со всеми своими будет принужден выйти». Большинство высказалось за Герцена, Маркс остался в ничтожном меньшинстве – встал и покинул комитет. Это была одна из многих выходок против русских, предпринятых единственно на том основании, что они русские. Бакунина, Герцена и многих других революционеров-эмигрантов Маркс считал платными агентами царского правительства. Народническое движение в России рассматривал как «панславистскую партию, состоящую на службе у царизма».