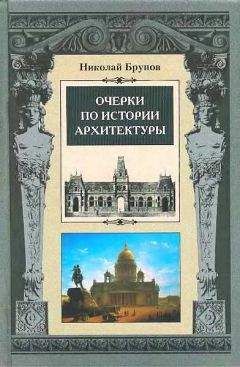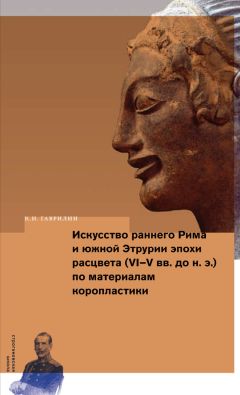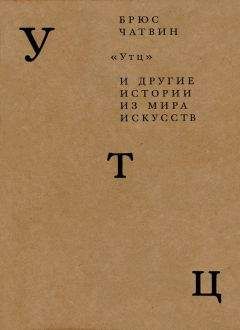Владимир Стасов - Искусство девятнадцатого века
34
Хороших, замечательных, талантливых пейзажистов было в Германии, в течение XIX столетия, немало, но не было между ними ни одного истинно великого, истинно гениального. В этом германцы не представили ничего, что могло бы равняться с пейзажной живописью французов первой половины века, с их открытиями, ничего, что являлось бы почином, началом чего-то нового, еще не тронутого прежде другими.
Главною характеристическою чертою немецких пейзажистов XIX столетия является тот самый факт, который характеризует и всех остальных пейзажистов Европы нашего века: это — покидание пейзажа классического, идеального, выдуманного и аранжированного и переход к пейзажу действительному, старание изучить, узнать, схватить его во всей его истинности и передать его во всех чертах и подробностях, со всеми его световыми эффектами и явлениями, со всеми облаками, тучами, воздухом, огнем и мраком, очарованием и волшебством, в самом реальном и правдивом, бесконечно верном и неподкупном облике. В эту сторону были направлены усилия всех главных немецких школ: дюссельдорфской и берлинской, мюнхенской и веймарской.
Но между тем, как лучшие, замечательнейшие пейзажисты французские, вся барбизонская школа: Руссо, Дюпре, Коро, Добиньи а с нею также Курбе, Милле, Тройон и другие, взяли себе темой и объектом изучения специально французские местности и именно в изображении их выразили и возрастили весь свой оригинальный талант, немецкие — наоборот, как будто чуждались своей отечественной, национальной природы, в ее современном виде, отводили от нее (конечно, не всегда, но слишком часто) глаза и искали себе оригиналов более, как им, вероятно, казалось, достойных и подходящих. Какая странность! Многие ли еще другие страны в мире заключают столько поразительных прелестей и красот природы, как Германия!
После периода классичности (Кох, Ротман, Преллер) и подражательности прежним мастерам, первым действительно немецким и самостоятельным пейзажистом должен быть признан Лессинг. Будучи всего еще восемнадцатилетним юношей, он написал «Пейзаж с острова Рюгена», который тотчас же обратил на него внимание публики своею талантливостью, но где сразу заметили некоторое родство с Рюйсдалем. После того он пошел быстрыми шагами вперед, и в конце 20-х и в начале 30-х годов написал немало замечательных по своему реализму (в старонидерландском роде) ландшафтов с романтической обстановкой замков, монастырей и средневековых действующих лиц. Но когда в 1832 году ему удалось поехать в Эйфелевскую область, он был поражен красотою ее природы и видов, он нашел тут все то, чего его художественная натура требовала. Он ревностно принялся изучать очертания гор, скал, деревьев и стал переносить множество этих новых аспектов в свои картины. Его создания в этом роде очень многочисленны, но тут его талант всего более проявлялся лишь в рисунке, контурах — краски ему мало давались, как и в исторических картинах.
Значительное число других, еще замечательнейших германских пейзажистов точно так же, как и Лессинг, были неудовлетворены окружавшей их природой и с конца 30-х годов искали красот и характеристических проявлений ее вдали. Берлинец Беллерман в начале 40-х годов привез множество отличных рисунков, эскизов из путешествия в Южную Америку и потом в продолжение полстолетия разрабатывал эти наброски в картинах (замечательнейшим созданием его считается изображение «Первобытного леса»); другой берлинец, широко и высоко прославленный Эдуард Гильдебрант, начал свои путешествия — и, как результат их, свои картины — с острова Рюгена (1838), потом в 40-х и 60-х годах объехал Англию, Шотландию, острова Канарские, Италию, Сицилию, Египет, Нубию, Сахару и кончил Ледовитым океаном. Его наблюдательность и способность изучать местности и явления природы были громадны, письмо блестяще и великолепно и потому очень эффектно для всех, но он был наполнен одною только мыслью — отыскивать везде в природе какие бы то ни было исключительные «феномены», экстренные очертания, поразительные линии и группы и блистать на своих картинах этими своими находками, ослеплять воображение зрителя.
Между другими пейзажистами значительными величинами явились среди мюнхенской школы — Моргенштерн, среди дюссельдорфской — Гурлитт. Оба они были родом северогерманцы, оба провели несколько лет в тщательном изучении оригинальной, изящной природы, датской и норвежской. Лишь позже они принялись за Германию. Первый написал много прекрасных пейзажей (часто с лунным, любимым своим, освещением) из природы Баварии, Северной Германии и Гельголанда второй — много пейзажей северогерманских. Оба возрастили не малое количество новых немецких живописцев, реалистов и водворителей простого и верного взгляда на отечественную, немецкую природу.
Влияние этих двух северных германцев на пейзаж Средней и Южной Германии было столь сильно, что даже такой значительный талант, как Андрей Ахенбах, необыкновенно много им обязан своим художественным развитием. Но событием, окончательно решившим его направление и облик художественного таланта, было путешествие, предпринятое в 1832 году при отце (который был купец) в Голландию, Северную Германию и Ригу — здесь он видел в первый раз море. В 1836 году он написал «Бурю у шведских берегов», которая считается истинною эпохой в истории европейского пейзажа. Много было писано в XIX веке отличных пейзажей на разнообразнейшие темы, но «бури» были забыты со времен нидерландцев, и никто не решался изображать их. Ахенбах принялся глубоко и ревностно изучать и писать на картинах своих морские бури и достиг в этом такого великого, неизвестного до тех пор в новом искусстве совершенства, что все живописцы Европы пошли по его следам и стали продолжать его дело. Немногие приблизились к нему. Он остался единственным. Но его обвиняют в последнее время в том, что при всей громадной и великолепной его технике он ищет передавать не свои внутренние ощущения, не глубину чувства, а только заботится о произведении сильных эффектов и поразительных по изяществу картин, чем и отличается от старинных, простых, искренних, ни о какой публике не заботящихся нидерландцев. Но, как бы там ни было, Ахенбах был художник высокозамечательный, редкий между лучшими художниками нашего века, и что им выражено из бунта стихий, из бушеваний расколебавшегося моря, из его разверзшихся целыми пропастями хлябей, из ходящих, словно горы, сизых волн, из его мрачных небес, мечущихся и растерзанных облаков, из его световых явлений, то ослепительных, то угрюмых и страшных, — навеки останется, конечно, великолепным и несравненным. Но громадная виртуозность Ахенбаха не ограничивалась одним морем, он писал также много картин, которых сцена — на твердой земле. У него есть чудесные виды изумительных по красоте многочисленных норвежских водопадов, германских лесов и долин, полей и лугов в Ганноверской и Нижнерейнской области, наконец, виды внутри лучших голландских городов. Между последними особенно отличаются: «Еврейский квартал в Амстердаме», «Рыбный рынок в Остенде» (1866), со множеством движущихся и волнующихся фигур, превосходно нарисованных и необыкновенно живописно освещенных. Довольно слабы у него лишь его итальянские картины и виды 40-х и 50-х годов.
35
Среди всех европейских живописцев XIX века Менцель один из самых великих, среди же немецких — он первый и наивеличайший. Он уже высокодаровитым и родился, но укрепил и возвеличил свое необыкновенное дарование таким железным трудом, таким неиссякаемым старанием и заботой, как это бывало лишь у очень немногих людей на свете. В молодые и даже средние годы счастье вовсе не благоприятствовало ему. Еще ребенком (родился в 1815 году) он уже пробовал сочинять «картины» и, будучи всего тринадцати лет, нарисовал карандашом, на академический манер, сцену из римской истории: «Сципион и Метелл»; пятнадцати потерял отца и стал работать для прокормления себя в бывшей отцовской небольшой литографии; восемнадцати он попробовал поступить в Берлинскую Академию художеств, но там едва проработал немного в гипсовом классе, как уже был принужден выйти оттуда вон — директор Академии, скульптор Шадов, не находил у него достаточно таланта для того, чтобы держать его в Академии даром. Менцель был беден, ему еще итти куда-то учиться было некуда, он стал учиться, как мог, сам. Таким образом он сделался, по нечаянности, навсегда — самоучкой. Но самоучкой необыкновенным, гениальным. Так что первая внешняя неудача послужила ему, по всей вероятности, к лучшему. Он научился своему делу сам, одинокий, так прочно и широко, как, быть может, не научился бы ни в какой школе, и когда книгопродавец Закс поручил ему иллюстрировать литографией сцены Гете «Земная жизнь художника», он нарисовал для этого издания шесть таких талантливых рисунков пером, столь оригинальных и мастерских, что тот же самый Шадов, который не сумел удержать его в Академии, публично высказывал теперь этому самому восемнадцатилетнему юноше свое одобрение.