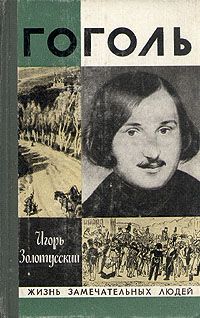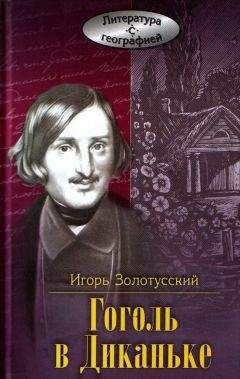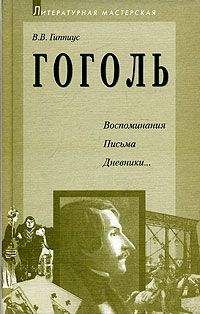Игорь Золотусский - Поэзия прозы
«Северная пчела» адресовалась к публике и одновременно зависела от нее. Она сообразовывалась со вкусом публики и воспитывала его. Оставаясь в официальных сообщениях о жизни двора официальной, она позволяла себе в светском тоне освещать зарубежные новости, судить о театре, живописи, литературе, об успехах промышленности и проч. Тон «Северной пчелы» в этих материалах был фамильярно-приятельским, почти амикошонским. Не делая различия в великом и малом, она до всего касалась, ко всему имела причастность и со всем, по выражению Хлестакова, была «на дружеской ноге».
Лишь одно исключение было у нее в этом смысле — русская действительность, внутренняя жизнь государства, сообщения о которой на страницах «Пчелы» появлялись крайне редко. Поражает отсутствие информации, оповещения о событиях, которые могли бы больше других заинтересовать русского читателя. Лишь редкие статистические отчеты без комментариев, без попытки анализа. Раздел «Внутренних известий» — самый тощий в газете, он ограничивается перепечаткой указов царя и перечислением награждений.
Русская жизнь погружена в молчание. Даже в кондитерских, как сообщает «Северная пчела» в номере от 8 мая 1833 года, где на столах лежат иностранные газеты и журналы и посетители имеют возможность обменяться мнениями, царит полная тишина. Так бывает тихо в классах, пишет «Пчела», когда их посещает директор училища. Кажется, никто никуда не ездит, не передвигается, кроме лиц царской фамилии и «особ первых пяти классов». Остальные пребывают в инерции и неподвижности. Зато на европейском театре — оживление и балаган. Свергаются короли и правительства, спорят газеты, заседают палаты депутатов, пэров, лордов. Сами депутаты, отстаивая свою точку зрения, так распаляются, что доходят до применения кулаков.
Участвуя во всем этом хотя бы мысленно, русский человек мог представить себя на международной арене, мог насладиться иллюзией, что он тоже гражданин человечества, судья его судеб. Возбуждение жизни внешней могло заменить ему отсутствие жизни внутренней, накал страстей во французском парламенте — скуку на маскарадах, единственных, по свидетельству той же «Северной пчелы», публичных собраниях в России. Естественно, что на этом фоне события в Испании были для русской прессы находкой, долгодействующим отвлечением, которым она могла интриговать подписчиков. «Испанские дела» прочно укоренились на полосе, заняв чуть ли не центральное место среди иностранных сообщений. Позже для них была отведена специальная рубрика, печатавшаяся жирным шрифтом. Читателю сразу бросались в глаза два этих слова, отбитых белыми полями: «ИСПАНСКИЕ ДЕЛА».
К радости издателей «Северной пчелы», испанские дела принимали характер затяжной войны, некоего таинственного приключения, в котором то и дело менялась фабула, а действующие лица то исчезали, то появлялись в неожиданном месте. Прежде всего это касалось судьбы Дона Карлоса. Инфант то возникал на территории Испании, то пропадал и вновь воскресал в Португалии, в Англии, в одной из испанских провинций. Его сторонники то брали верх над регулярными королевскими войсками, то подвергались жесточайшему разгрому. Но проходило время, и «Северная пчела» сообщала, что карлисты успешно сопротивляются законной власти.
Загадочные перемещения Дона Карлоса, его упрямство в несогласии с волей умершего короля, его победы на испанской земле возбуждали воображение. Они напоминали о недавних временах Наполеона, взбудоражившего своими дерзкими действиями мир. Отзвуки той эпохи еще чувствовались. В 1833 году на Вандомской площади в Париже была воздвигнута колонна, на вершине которой стоял вчерашний возмутитель спокойствия. Он как бы подавал пример всем, кто смотрел на него снизу вверх. То тут, то там появлялись новые «наполеоны», претенденты, кандидаты в великие. Еще 3 мая 1830 года «Северная пчела» писала: «Во Франции явился новый претендент: он прикащик в купеческом доме, и к этому обыкновенному титулу прибавил на своем паспорте другой: Король Французский и Наваррский». А вот информация от 8 декабря 1831 года: «Франция. Вчера столпился здесь народ на ул. Каде. Некто по прозвищу Люн, воображая иметь большое сходство с Наполеоном, вздумал нарядиться в серенький сертучок и надеть маленькую треугольную шляпу. Народная толпа окружила его, и мальчишки кричали: „Виват, Наполеон!“ Полиция схватила его…»
Пример Наполеона, под впечатлением которого все еще жила Европа, подавал надежды. Если императором мог стать безродный корсиканец, то почему им не может стать приказчик? Или титулярный советник?
Статистика о сумасшедших, которую чаще других печатает «Северная пчела», полна любопытными цифрами. Цифры эти свидетельствуют, что среди больных, содержащихся в санкт-петербургском доме умалишенных, более всего чиновников. Среди пестрого списка причин, приведших этих людей в этот дом, указывается главная: «гордость и честолюбие». За ней следуют «испуг и робость». Испуг и робость являются как бы предтечами гордости и честолюбия.
Сообщения о жизни сумасшедших резко увеличиваются в 1833 году — году, предшествующем появлению повести Гоголя. Чуть ли не через номер «Северная пчела» печатает информацию и материалы на эту тему. 8 марта 1833 года в очередном статистическом отчете извещается о росте чиновников среди больных. Их уже почти половина всего наличного списка. 24 апреля газета публикует извлечения из книги «Рассуждения о лечении умалишенных, сочинения доктора Левенгайна», где говорится о случаях, когда больной воображает себя Королем, Ангелом, Принцем, Богом и т. д.
Но особенный интерес представляет статья «Северной пчелы», начавшая печататься 5 февраля 1834 года. Она посвящена Больнице Всех Скорбящих — так отныне именуется петербургский сумасшедший дом. Корреспондент, побывавший в нем, описывает чистые светлые палаты, приятное питание, которое недоступно больным на воле, ласковость Главного Доктора. По воскресеньям сумасшедшие слушают литургию в больничной церкви. «Белье вообще отменное, одежда такая, что многие из сиих несчастных не могли бы иметь у себя дома. Сертуки из тонкого сукна, шинели из английской байки…» Даже «отхожие места заслуживают внимания: это известные ватер-клозеты — изобретение, которым мы обязаны англичанам». «Телесные наказания в Больнице Всех Скорбящих не известны» (9 февраля 1834 г.). Здесь есть орган, бильярд, шашки, стол ломберный для карточной игры, на окнах нет решеток. Во дворе и парке пруды, фонтаны; кроткие пациенты в награду за кротость выезжают в город и «прогуливаются вне заведения». В этом же номере газета, впрочем, вынуждена сообщить о некоторых мерах, которые предпринимаются в отношении непослушных. В здании есть черная комната, в которой пол, стены и двери почти до потолка обиты тюфяками и обтянуты клеенкою. «Иным, — пишет „Пчела“, — нужно бывает употребить холодные обливания (douches)… Самое большое непослушание наказывается холодными капельными ваннами». В этом номере статья о сумасшедшем доме следует непосредственно за рубрикой «Испанские дела». О них, кстати, сообщается: в Мадриде создан королевский суд, такие же суды появились в других городах. Суд над буйными в Больнице Всех Скорбящих и над сторонниками Дона Карлоса в Испании как бы сближаются на газетной полосе.
Впрочем, суд этот, как уверяет «Пчела», может быть и милостивым, но для этого необходимо только одно — молчание (вспомним постоянный рефрен исповеди Поприщина: «Ничего… молчание!»). На стенах палат висят черные доски, на которых белыми буквами написано: «Будь скромен (курсив мой. — И.З.), и без труда будут отдавать тебе почтение».
Само название газеты Булгарина как бы соответствует идее скромности. Пчела — символ постепенности, трудолюбия, подчинения ходу вещей. Она — образец исполнения долга, как бы он ни был тяжек. (Булгарин не раз расхваливал свою газету за эти качества.)
Скромность на ее страницах не просто противопоставляется гордости. Она поэтизируется. От скромности прямой путь к счастью, считает «Пчела». Чтоб не быть голословным, ее издатель в нескольких номерах печатает притчу о честолюбце, который излечился от честолюбия оригинальным способом. Врач-психиатр, встретившийся с честолюбцем (от имени врача и ведется рассказ), дал тому прочитать записки сумасшедшего, которые попали ему в руки. Это «Три листка из Дома Сумасшедших», оставленные несчастным, который помешался на почве сверхгордости.
Экспозиция рассказа напоминает повесть Гоголя. Молодой человек заболел жаждою высокого чина. Будучи сам в малых чинах, он каждый день читает «Сенатские ведомости» и узнает о новых повышениях и назначениях. «Вот люди, — говорит он, — которых я знаю, как самого себя, люди, у которых нет столько ума и способности в башке, сколько у меня в мизинце! Люди-машины!.. А вот один из них Начальником отделения, другой Директором, третий Правителем канцелярии, четвертый Губернатором!.. Все обвешаны орденами! А я… я!..» Кажется, это говорит Поприщин. Кажется, вслед за этим должна последовать и претензия на трон. Но Булгарин вовремя останавливает своего героя. Он не дает ему зарваться. Тут-то и появляется врач со своими «Тремя листками». В них рассказывается история трех жизней одного и того же человека. Первая его жизнь была посвящена эгоистическому служению себе. Когда он умер, люди даже не вспомнили о нем. Как бы испытывая его, бог дал ему второй срок. Его он прожил достойно. Он заботился о ближних, помогал своим крестьянам. Те поставили ему на могиле памятник с надписью «Доброму помещику». И вновь призвал его на божий свет господь. И этот третий срок вновь стал для него искушением. Он не внял опыту своей второй жизни и впал в гордыню. Ему начало казаться, что он достоин большего, что его силы не оценены. Самолюбие росло и довело его до сумасшествия. В желтом доме он сидел в отдельной комнате, «беспрестанно занимаясь письмом, воображая, что управляет государством». В другое время ему казалось, что он заключен в темницу, и «тогда предавался отчаянию и твердил беспрестанно о своей невинности». В те дни он и составил свои «Три листка».