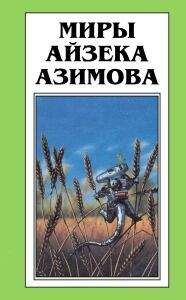Василий Розанов - Идейные споры Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова
«В таком странном положении живут люди. Нынешняя жизнь носит противоречие внутри себя. Она возможна только потому, что человек вообще может жить, не имея внутреннего согласия и останавливаясь на какой-нибудь одной мысли, например свободы, национальности, обязательного обучения и т. п.
И вот я отрицаю самые крайние из отрицаний и говорю, что если люди в них живут и действуют, то только в силу каких-нибудь положительных начал, обманывая сами себя, принимая призраки за действительность, любя и злобствуя, но без настоящего предмета для любви и злобы. Я давно смотрю и вглядываюсь, но не вижу ясного идеала».
Вот изложение дела, которое случайным образом удалось Страхову в частном письме лучше, чем в каком-либо из напечатанных сочинений. Это бывает… Гений «случая» («Bonus Eyentus»), которому римляне молились как «богу», управляет битвами и иногда управляет пером писателей. Вдруг скажется слово, напишется страница, где литературное положение и личность автора засияет так ясно и так читаемо, как она не читается в томах им напечатанных книг, — зрелых, обдуманных. Вовсе не «с Западом» боролся Страхов, как он выразился в заголовке трехтомного труда своего, а он боролся или «отрицал» то отрицание, то разрушение положительных твердынь истории и цивилизации европейской, какие были заложены И. Христом, заложены греческою философией и римскою гражданственностью и которые в течение четырех веков новой истории подвергаются всестороннему подтачиванию, критике, ненавидению и разрушению.
Рушенье светлых миров в безнадежную бездну Хаоса.
Вот что ненавидел Страхов всеми силами души, как благожелательный старец, как просто порядочный человек, — не говоря о высших определениях, вытекавших из его литературных и философских способностей и из его занятий. Нет, эти способности и занятия он подчинил простейшему в себе идеалу, доступному и каждому человеку… «Я живу, чтобы создавать, а не живу, чтобы разрушать и портить»… «И если целая эпоха занимается, в сущности, разрушением, то я складываю руки и не принимаю никакого участия в ее работе и жизни, в ее надеждах и пафосе». Эта простая мысль Страхова объясняет историческое положение всей так называемой «консервативной» партии в литературе и в жизни, которая вовсе не есть партия застоя и недвижности, не есть партия приверженцев каких-либо лиц, сословий, общественных групп, а есть целый стан людей, целый лагерь людей, не выдающих «последнюю икону на поругание». Суть в «иконе», а не в людях, не в лицах, не в интересах. «Вы не молитесь, никто не молится, — но мы хотим молиться». «Вы — без литургии, а только с кабачком и удобствами: а мы испытываем потребность молиться и не даем вам ни заглушить свои хоры, ни загасить свои свечи». Консерваторы — люди Последнего Огня, последней звездочки. Вот. Это не черствые, не бессердечные, не глупые и тупые, как по ним хлестала и хлещет сатира. Не те, которые крадут казенный сундук и целуют у высокопоставленных особ ручку, как утверждают стишки и проза. На них мечутся эти стихи и проза. Кипит вокруг них горячая злоба, о которой они спокойно говорят: «Это не вулкан, а грязная сопка азиатского происхождения, монгольского происхождения, которая кипит грязью и выкидывает из себя грязь». Этой горячей грязью усиливаются залить: «якобы» наука — подлинную, с древности идущую, науку и философию, «якобы» поэзия вычур, злобы и извращения — подлинную поэзию; подземные партии, клокочущие завистью к богатству и власти, к авторитету и силе, пытаются опрокинуть подлинные и совершенно необходимые человечеству авторитеты правильной государственности и подлинной церкви. С бледным лицом, с зелеными глазами угорелой кошки «подпольное неистовство» кидается на все эти авторитеты, — нисколько не ножные, ибо они идут от Христа, от Рима и от Греции, крича, что из какой-нибудь полоумной головы Бакунина они построят нечто лучшее Капитодая, Акрополя и Голгофы. Не все знают, что, когда Бакунин устроил маленькую революцию в Дрездене и королевские войска осадили город, он, — распоряжаясь в нем, — потребовал вывесить на стены города картины Дрезденской галереи, т. е. подставить под ядра Мурильо, Веласкеса, Рембрандта и Рафаэля, — дабы, расстреляв сотни три полотен, — остановились разрушать тысячи. Почему должны были «остановиться» грубые солдаты, когда «не остановился» образованный Бакунин, — непонятно. Страхов и шептал про себя, да и нашептывал читателям: «Это — не Атилла, а просто помещик Ноздрев, естественное и единственное отношение к которому — связать и выбросить его вон. И — ни малейше не писать о сей знаменитости историю». Теперь (продолжим неконченый факт до полной его мысли) — Страхов ли, охранявший Дрезденскую галерею, или Бакунин — требовавший ее расстрела ради необузданной своей мысли, ради «Кит Китыч так хочет» — Кто из них двух, «консерватор» или «революционер», был за культуру, был за прогресс, был за добро, был за благополучие человеческое? Спокойным и мудрым глазом Страхов рассмотрел старые «мертвые души» под всеми своими звонкими одеяниями, под всеми этими звонкими выкриками, под всею этою феерическою обстановкою. Суть Страхова, мне кажется, лежит в глубоком личном бескорыстии. «Мне самому ничего не нужно, кроме книг: но в книгах этих, которые я всю жизнь читаю, мне открылось столько красоты и смысла, столько вечной истины, без которой человеку страшно и невозможно жить, что я старою и бессильною рукой выковырну из мостовой булыжник и буду этим булыжником защищать сокровищницу человечества, — Чашу Даров Св. Духа, — от всех этих славных и знаменитых Бакуниных, Герценов, Прудонов, Лассалей, Робеспьеров, суть коих — гениальная злоба или могучая волевая бессмыслица»…
Страхов не мог не видеть, что Толстой, который начал было с отрицания безрелигиозности общества, — незаметно более и более вовлекается в ту же самую борьбу с положительными идеалами человечества, на защиту которых сам Страхов положил всю свою жизнь.
1913