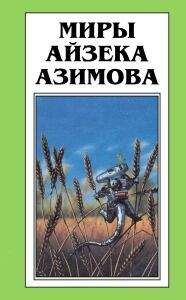Василий Розанов - Идейные споры Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова

Обзор книги Василий Розанов - Идейные споры Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова
В. В. Розанов
Идейные споры Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова
I
Печатающаяся в «Современном Мире» переписка между гр. Л.Н. Толстым и Страховым полна местами несравненного интереса. Толстой все творил и творил; выкидывал из себя целые каскады новых мыслей, новых пожеланий, новых оценок. Тихо шел за ним или около него Страхов, — ослепленный или, вернее, очарованный этим творчеством, хорошо понимая, что выше творчества в писателе и мыслителе ничего нет; но и понимая одновременно, что сама-то история человечества есть тоже великое сотворение, гениальное сотворение, и что поэтому относиться к нему отрицательно или разрушительно невозможно. Толстой, в каскаде «своих мыслей», почти не заметил и прошел мимо этих нежных ему укоров друга; скажем прямо — он просто их не понял, так как в нем говорил или из него кричал «дух пророчества» и вот этого сотворения «все вновь и вновь»; Страхов же ясно видел неверность путей, на которые вступает Толстой, потому именно, что Страхов лишен был «творчества из я» и ум его был прикреплен к созерцанию вековечных устоев истории, вечных, так сказать, «стран горизонта», с которыми и Толстой должен бы сообразовать свое «плавание», но не сообразовал его, и потому именно, что прямо не видел горизонта дальнего. Страхов был компас, но только компас; Толстой был паровик, но только паровик. Увы, «дружба» их не вылилась в гармонию «паровика и компаса»; и теперь, когда много времени прошло, видишь, оглядываясь назад, что «новаторство» Толстого было по существу продолжением того «нигилизма», против которого всю жизнь боролся Страхов; а Страхов был несколько обманут той религиозною оболочкою, в которую был завернут нигилизм Толстого. Страхов с величайшим энтузиазмом приветствовал поворот Толстого к религии и религиозности, — уверенный, что это подействует на наш «старый нигилизм», свернет его с путей голого отрицания. Но время прошло, и в действительности-то оказалось, что «старый нигилизм» был крепче и выжил, а Толстой, в сущности, покорился ему в самой религиозности своей, в самых своих исканиях, «где лучшее» религии.
Спор начался с «Писем о нигилизме», напечатанных Страховым в аксаковской «Руси». Письма эти не удовлетворили Толстого и даже раздражили его. И виден пункт разницы между Толстым и Страховым. Страхов судит нигилизм как историческое явление; судит его под впечатлением 1 марта. Толстой совсем не видит истории и даже не интересуется ею, а судит скорее не «нигилизм», а «нигилистов», — с точки зрения на «запросы души их», этих нигилистов, говоря, что они правы, отрицая всю теперешнюю действительность, этот мир форм и мундиров, мир внешности и официальности. Таким образом, спор между «друзьями» происходил в совершенно разной плоскости, и они никак не могли понять друг друга и сговориться. Здесь крайне характерно и высоко ценно письмо Страхова к Толстому от 25 мая 1881 года:
«Я думал, бесценный Лев Николаевич, что после напечатания моего третьего или четвертого „Письма о нигилизме“ вы скажете мне хоть в нескольких словах ваше мнение… Но стал я вспоминать наши разговоры прошлым летом, когда мы не соглашались… Написал я, конечно, очень дурно, потому что не выразил и сотой доли того, что хотел, а то, что выразил, сказал в сто раз холоднее, чем думал. Не хватило и, может быть, никогда уже не хватит прежней силы. Но тема меня увлекла. Этот мир я знаю давно, с 1845 года, когда стал ходить в университет. Петербургский люд с его складом ума и сердца и семинарский дух, подаривший нам Чернышевского, Антоновича, Добролюбова, Благосветлова, Елисеева и пр. — главных проповедников нигилизма, — все это я близко знаю, видел их развитие, следил за литературным движением, сам пускался на эту арену и прочее. Тридцать шесть лет я ищу в этих людях, в этом обществе, в этом движении мыслей и литературы — ищу настоящей мысли, настоящего чувства, настоящего дела — и не нахожу, и мое отвращение все усиливается, и меня берет скорбь и ужас, когда вижу, что в эти тридцать шесть лет только это растет, тридцать шесть лет только это может надеяться на будущность, а все другое глохнет и чахнет. Вы помните, какой отрадой были для меня вы, в какой восторг меня привела „Война и мир“. Но общий поток прошел мимо и вас, и вашей „Войны и мира“ — и все возрастал и усиливался. Если бы вы знали, что я чувствую тут, слушая нынешние речи и рассуждения, следя за чувствами и поведением милых моих петербуржцев! Одна уже привычка к болтовне, принимаемой за дело, одни уже непрерывные умничанья, не содержащие капли ума, могут привести в неистовство самого серьезного человека. А если у человека шевельнулось и серьезное чувство, то он готов будет и возненавидеть этих болтунов, говорящих с простодушнейшим видом самые отвратительные вещи. Конечно, хорошие, настоящие нигилисты в тысячу раз выше этого общества, но, к несчастию, они его плод, они приняли всерьез его бездушие и пустомельство и исполняют его программу. Я не могу равнодушно думать о той истории, которая совершается перед нами, об этом извращении сил и бесплодной гибели. Это похоже на то, как если бы человек сам себя резал ножом в куски или бился головой об стену, воображая, что творит какой-то подвиг, который принесет и всем и ему и славу и благополучие» (курсивы везде мои. — В.Р.).
Тут центральную мысль, центральное наблюдение «за 36 лет жизни» составляют слова Страхова, что даже «наилучше настроенные нигилисты» тем не менее продолжают бездушие болтающего, пустомельного общества, — (переводят только это «пустомелъство» его в серьезную программу и гибнут за осуществление этой программы. В самом деле, «террор» и «террористы», конечно, осуществили в «1-м марте» программу старого «Современника», старых «Отечественных Записок» и «Дела», не прибавив, да и не желая прибавлять, ни одной своей и новой мысли к атеистической и нигилистической болтовне этих корифеев русской журналистики, по существу совершенно невежественной и только чрезвычайно волевой и напряженной. В воле, а не в знании и образовании лежит корень русского и, точнее, семинарского нигилизма. Воображать, что Добролюбов и Чернышевский были какими-то философами или политико-экономами, — могут только их совершенно неразвитые ученики и последователи. Самый страх их перед серьезной мыслью и почти полувековой журнальный «террор» над спокойно мыслящими людьми вроде Б.Н. Чичерина и самого Н.Н. Страхова — объясняется из испуга, как бы ученики не посмотрели куда-нибудь «дальше учителя», как бы они не увидели чего-нибудь «в стороне» от философа Михайловского и от политико-эконома Чернышевского; как бы они не вздумали «уклониться» от Дарвина, Гёксли, от Бюхнера и Молешотта. «Не дальше нас» — вот ферула всех этих воистину учителей нигилистической бурсы, которая была темна, сыра, промозгла и вонюча, как бурса Помяловского.
Толстой возражал против этого: «Но они — идеалисты по душе», по порыву, по мечте. Однако самая мечта-то не шла дальше Бюхнера и Молешотта, т. е. это была просто философская галиматья, галиматья в зерне своем, в способе своего зарождения. Просто это было «яйцо-болтун», из которого цыпленка не может родиться, — а выходит из такого яйца какая-то кровавая и затхлая мерзость. В миросозерцании нигилистов, при наилучших их «волевых намерениях», содержалось, однако, именно разрушение и только разрушение стройных идейных миров, прежде всего мира религиозного и потом мира политического. К спору-то об этих мирах и переходит далее Страхов, нападая, хотя в высшей степени кротко и деликатно, на учение самого Толстого.
II
Спокойствие не есть равнодушие, а есть мудрость. Вот этой мудрости воздержания, мудрости самоограничения в самом творчестве — недоставало Толстому. Можно «распуститься», можно «забыться», например даже шествуя по такой идеальной стезе, как «личное самоусовершенствование». Как ни странно сказать, но, «лично совершенствуясь», можно дойти до сплошного хулиганства. Страшно выговорить, но ведь это очевидность для всей России, что Толстой, уйдя в «чревосмотрение» личного совершенства, внутренних добродетелей, — дошел до раскидывания как какой-то «ненужной поленицы дров» всей старой цивилизации — церкви, государства, искусства, науки. Может быть, поленица-то и полуразвалилась, но все люди пока берут из нее дрова и топят свои маленькие печи. И без этих дров человечество замерзнет. Сюда входит и личный спор его с Софией Андреевной, которая решительно была права с семьей и со своими попечениями о семье. Пусть это «язычество», но — совершенно необходимое, эти заботы «о себе» и «о ближайших». София Андреевна только раньше всей России, как ближе всех стоявшая к Толстому, почувствовала «невозможность Толстого» и «непереносимость толстовства». Но она почувствовала то самое, что потом почувствовала и вся Россия. Толстой против всего восстал, все стал раскидывать в стороны. Что это? Да просто — нигилизм, но не позитивный, не материалистический, а мистический и страстный, но, однако, именно нигилизм. Толстой именно «забылся», «распустился», стал величайшим эгоистом своего творческого «я», — противопоставив его всему миру, всей истории. Но он забыл, что он человек и что никакому человеку не дано божеских сил нового создания. Он не хотел творить рядом с другими, творить около Гёте, творить около Шекспира, творить около скромной науки с ее «шаг за шагом». Он хотел творить — один. Здесь-то его и «роковое»: в нем не было маленькой и совершенно необходимой для каждого черты — скромности. Да, — за Сютаевым он шел, потому что Сютаев был «мужичок» тех же нравственных требований, как «я». Но поразительно в Толстом уже молодых лет, еще великих художественных и, казалось бы, безупречных созданий: постоянное соперничество, не лишенное завидования, в отношении всех больших лиц, больших авторитетов, больших значительностей; соперничество и ревнование к «властям предержащим», говоря словом церковной эктении, перекидывая «власти предержащие» в «идейный мир».