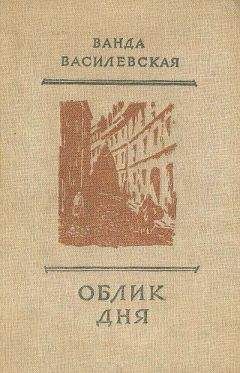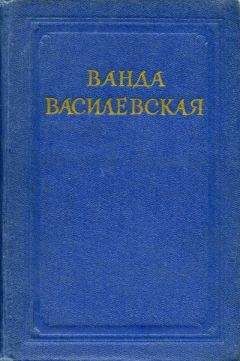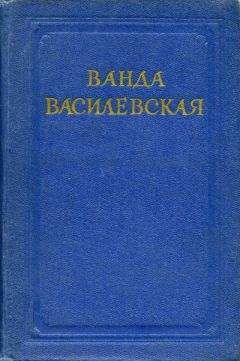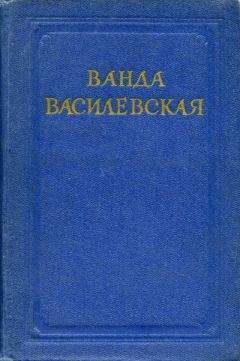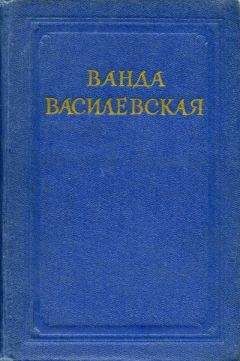Ирина Сурат - А если что и остается
Поэт говорит из-под земли, обращается ко всем и каждому, его слово доходит до людей, и событие смерти как будто не имеет значения. Заметим, что Мандельштам не прогнозирует будущее, а просто входит в него, обживая его как реальность. То же — и в «Оде» 1937 года:
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, что солнце светит.
Во всех этих стихах поражает уверенное знание своего персонального будущего, так или иначе связанного с звучащей речью, — поэт и в земле остается собой. И оказывается, что стать землей — это значит не умереть, а перейти в новую фазу земной жизни, в которой у поэта больше шансов быть услышанным.
С землей и всем, что растет из нее, связано множество различных метафор послесмертия в русской поэзии. Традиционная форма воображаемой будущей жизни — трава или дерево: «Я к вам травою прорасту…» (Геннадий Шпаликов), «…Буду звезда, ветла…» (Андрей Вознесенский, «Осень в Сигулде»). Другой ряд метафор связан с горением и сгоранием — это прежде всего пепел, символизирующий тленность, и свеча — образ недолговечности, обреченности, но также и жертвы и памяти. У Арсения Тарковского образ свечи развивается в бесконечную метаморфозу жизни:
Я свеча, я сгорел на пиру.
Соберите мой воск поутру,
И подскажет вам эта страница,
Как вам плакать и чем вам гордиться,
Как веселья последнюю треть
Раздарить и легко умереть,
И под сенью случайного крова
Загореться посмертно, как слово.
(«Меркнет зрение — сила моя…», 1977)
Жизнь поэта сгорела, а слово его осталось и может быть собрано, как воск, из которого получится новая свеча, и она снова будет гореть, поэтому умереть «легко», не страшно. Но посмертное существование в поэтическом слове гадательно, не обеспечено, оно зависит от живущих — к ним и обращается поэт: «Соберите мой воск поутру…», подобно тому как герой пушкинского «Андрея Шенье» обращался к друзьям: «Храните рукопись, о други, для себя!»
Все эти образные ряды отражают усилия творческого сознания по преодолению страха небытия. Поэт, как всякий человек, не хочет соглашаться со смертью, а если и пытается осознать ее и представить, то его воображение часто остается в кругу известных ему форм земной жизни. На этот страх и эти образные поиски и гадания дает свой ответ Олег Чухонцев:
— …И уж конечно буду не ветлою,
не бабочкой, не свечкой на ветру.
— Землёй?
— Не буду даже и землёю,
но всем, чего здесь нет. Я весь умру.
— А дух?
— Не с букварём же к аналою!
Ни бабочкой, ни свечкой, ни ветлою.
Я весь умру. Я повторяю: весь.
— А Божий Дух?
— И Он не там, а здесь.
1970
Обнуляя каталог традиционных утешительных метафор, Чухонцев говорит суровое «нет» любым готовым решениям во имя глубинно ощущаемой правды. Для его героя-«крепковера» невозможны заигрывания с вечностью, для него непереходима граница миров и запретны все попытки вообразить невоображаемое («— Не говори, чего не можешь знать, — / услышал я, — узнаешь — содрогнешься» — диалог с мертвым отцом в стихотворении «…И дверь впотьмах привычную толкнул»). Но, твердо повторяя: «Я весь умру», столь же твердо верит лирический герой Чухонцева в полноту будущего инобытия: «но всем, чего здесь нет» — это инобытие непредставимо для него, неумопостигаемо, но и неизбежно.
Горацианско-державинско-пушкинская тема «весь я не умру», когда поэты обращаются к ней, дает им повод сформулировать суть своей поэзии, обозначить ее нетленное ядро. До сих пор мы не можем во всей полноте осмыслить и принять пушкинский завет: «И долго буду тем любезен я народу, / Что чувства добрые я лирой пробуждал, / Что в мой жестокий век восславил я свободу / И милость к падшим призывал» — он кажется нам слишком простым и как будто недостаточным для величайшего национального гения. А между тем Пушкин здесь высказался столь же просто, сколь и точно, и его гуманистическое послание вошло в плоть и кровь всей русской литературы. Приходит новый «жестокий век», и новый поэт своим совершенно не по-пушкински звучащим голосом говорит о другом, а по сути — о том же самом. Процитируем отрывок из стихотворения Александра Еременко «Ода „эРИ-72“», посвященного «ментовской дубинке» — примитивному орудию унижения и насилия:
В последний раз меня забрали на Тишинке
Как весело она взглянула на меня!
«эРИ-72» с свинцовою начинкой,
зачуханный дизайн, недальняя родня.
…………………………………………..
Не-е-ет, весь я не умру. Той августовской ночью
и мог бы умереть, но только — вот напасть! —
три четверти мои, разорванные в клочья,
живут, хоть умерла оставшаяся часть.
И долго буду тем любезен я народу,
что этот полутанк с системой полужал
в полуживой строфе навеки задержал
верлибру в панику и панике в угоду.
С традиционной одической темой Еременко работает на грани пародии, но и со всей серьезностью. Его деклассированный герой, всегда исполненный достоинства, выживает в ментовской молотилке, чтобы «задержать» в забронзовевшей одической строфе память о своем времени; тупому насилию он противостоит внутренней свободой, небрежным юмором и упорядоченным стихом — «верлибру в панику и панике в угоду». Снижая пафос темы, Еременко переводит стрелку с собственного смертного или несмертного бытия на примету времени, запечатленную в стихе. Его творческая амбиция, казалось бы, невелика — образ осмеянной, посрамленной милицейской дубинки ставит он себе в заслугу перед вечностью, но именно перед вечностью («навеки задержал»!), и звучит это в высшей степени убедительно. В свой «жестокий век» своим особым манером Александр Еременко тоже восславил свободу — ценность непреходящую для поэзии.
Совсем иначе звучит «весь я не умру» в стихотворении Юрия Кублановского:
Ну не какой-нибудь залетный небожитель
непотопляемый, а без обиняков
я слова вольного дружбан, верней, гонитель
его в столбец стихов.
Вдруг ветерок крепчал, едва все удавалось
в четверостишии, блаженный, беговой —
так слово вольное, таясь, перекликалось
с другим в строке другой.
Не потому, что там вдвоем им стало тесно
от тавтологии, а чтобы в аккурат
их перечла вдова, запомнила невеста
и одобрял собрат.
Чтоб с белого холма мерещилась излука
с незаживляемой промоиной реки.
Ведь слово вольное — надежная порука.
И дали далеки.
Там живность лепится к жилищу человека,
считай, ковчежному, поближе в холода.
И с целью тою же на паперти калека
сутулится всегда.
Когда смеркается — смеркается не сразу.
Пока окрестности становятся тусклей,
как бы холодных горсть сжимаешь до отказу
рассыпчатых углей.
Нет, весь я не умру — останется, однако,
мерцать и плавиться в глазах в мороз сухой
последний огонек последнего барака
на станции глухой.
2 января 2003
Все стихотворение — визуально, как многие другие стихи Юрия Кублановского, искусствоведа и живописца, воспринимающего мир глазами и много работающего в поэзии со зрительными образами. Перед нами — зримая картина бескрайнего пространства жизни, общей и одновременно личной жизни поэта, воспроизводимой словом в ее временном течении. Картина-история развернута во времени и постепенно стремится к финалу («смеркается не сразу»), побуждающему подводить итоги. Итоги эти, как и вся жизнь, связаны со «словом вольным», которым поэт перекликается с пространством и с людьми, но не «по всей Руси великой» ждет он резонанса и понимания, а среди родных («вдова», «невеста», «собрат») — или, скорее, тех, кто станет ему родным по слову, кто увидит его глазами нарисованную им картину жизни. В эту картину он и переходит по смерти, в ней и остается — такую форму инобытия представляет себе поэт-живописец, и слово — тому «надежная порука». Последняя строфа ловит последний кадр запечатленной им картины — «последний огонек последнего барака / на станции глухой» — такой узнаваемый кадр русской жизни и современной русской истории, о которой всегда с болью пишет Юрий Кублановский. «Если что и остается», то эта боль, разделяемая с поэтом его читателями.
Как видим, поэты нашего времени, при всем их несходстве, не уходят далеко от пушкинских представлений о том, ч т о в поэзии главное и ч т о остается от поэта, когда физическое его существование завершено. Не ушел от этих представлений и Иосиф Бродский: написав от первого лица целую серию своеобразных «Памятников», от сердито-публицистического «Я памятник воздвиг себе иной!» (1962) до вызывающе-скабрезного «Aere perennius» (1995), он по сути нашей темы высказался не в них, а в стихотворении «На столетие Анны Ахматовой» (1989):