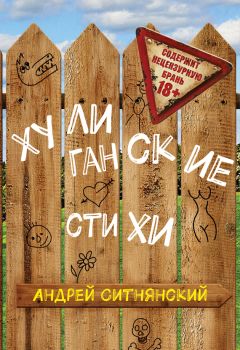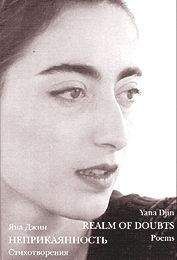Михаил Айзенберг - Оправданное присутствие: Сборник статей
Их необходимость и достаточность. Их открытость и незащищенность. Слово, сотканное за долгие годы из тины жизни и собственных нервов. Их органическая, кристаллическая выстроенность – но и зыбкость, порывистость, смутность. Как это сочетается? На его вещах словно лежит световой рефлекс – отсвет изменчивой водной поверхности. Безупречное чувство стихового ритма было в нем всегда, еще в самых ранних вещах. Он, вероятно, с ним родился. Его речь не тянется, а взмывает и падает. Смысл идет вслед за звуком, уходит вслед за звуком в какие-то неведомые области. И сердечный такт повторяет за ними все их движения.
Многое уходит, но звук остается: открытый звук – небывалый и незабываемый.
Лев Лосев, «Стихотворения из четырех книг»
Есть авторы, ставшие «частью речи» в самом буквальном и обиходном смысле этих слов. «А, все же, затрапезная столовка», – роняет вдруг один из неторопливо беседующих. «Где под столом гуляет поллитровка…» – понимающе подхватывает другой. А резюмируют уже дуэтом: «Нет, все-таки, как белая головка, так западные водки не берут».
Эти строчки принадлежат поэту Льву Лосеву, но уже не ему одному. Еще они принадлежат всем людям, включившим их в свой разговорный обиход и таким образом присвоившим. Таких строчек и целых стихотворений у Лосева множество. Его «индекс цитирования» – из самых высоких, это при том, что автор давно живет за океаном и там же, за океаном (в издательстве «Эрмитаж»), опубликовал две свои первые книги: «Чудесный десант» и «Тайный советник». То есть до России они дошли в считанном количестве экземпляров. Две следующие книги уже были изданы петербургским «Пушкинским фондом». Новая книга Лосева – избранное из четырех предыдущих.
Можно предположить, что наконец устранено – с огромным опозданием – одно из самых досадных издательских недоразумений. Но все не так просто. Я мог бы составить длинный список прекрасных стихотворений, не вошедших в изборник, хотя сам отбор, на мой взгляд, примечателен, а характер авторских предпочтений – тема особого, очень интригующего исследования. Нечего и пытаться заявить ее в маленькой рецензии.
Еще раз убеждаешься, что книга стихов – не сумма стихотворений. Все вещи знакомы, только их автор до прочтения книги был тебе неизвестен. Это какой-то другой поэт, другой Лосев. Более строгий, серьезный, менее склонный к рискованным шуточкам и каламбурам. (Надо заметить, впрочем, что шутки Лосева не имеют никакого отношения к «юмору», да и каламбурят люди не от хорошей жизни.)
Если вспомнить, мы и с первым Лосевым познакомились не так уж давно и всего-то лет двадцать назад впервые прочли его стихи в журналах «Эхо» и «Континент». (Из этих первых, вполне оглушительных, подборок вошло в изборник далеко не все.) Но «живым классиком» Лосев стал почти сразу и как-то неожиданно. Похоже, неожиданно прежде всего для самого себя. По его признанию, он начал писать стихи очень поздно, в тридцать семь лет (значащая цифра). Как будто ждал, когда наконец придет его время. Возраст автора и возраст его поэтики не всегда совпадают. Особая чуткость к пародии и «ирония стиля» сделали Лосева автором следующего – по отношению к его ровесникам – поколения, но это авторство дополнялось опытом наблюдения и рефлексии, точным пониманием литературной ситуации. Он прекрасно знал, каких именно общих мест современной ему лирики хотел бы избежать и каким образом. «Все это были рыбки на меху бессмыслицы, помноженной на вялость, но мне порою эту чепуху и вправду напечатать удавалось.» Бессмыслицы или прихотливой поэтической замысловатости в стихах Лосева нет и в помине, но сейчас он демонстрирует это не так программно. Видимо, чувствует, что его уже ни с кем не спутают.
Льва Лосева действительно ни с кем не спутать. В его лучших стихах (а их, лучших, очень много) есть какой-то особенный, личный фокус. Они начинаются обычно с непритязательного описания, перечисления, с зарисовки или комментария; они как будто пробираются исподволь мимо низких речевых истин, умышленно сталкиваясь с каждой. Ничего не имитируют, никого не обманывают. Только неуловимо меняется «качество звука», и ты оказываешься вдруг в ином пространстве, на другой высоте, в слитном гуле и громе оратории.
Именно поэтому стихи Лосева нельзя цитировать кусками, и все же – вот как заканчивается, например, стихотворение «…в „Костре“ работал», начатое с интонацией усталого и желчного мемуариста:
И время шло.
И подходило первое число.
И секретарь выписывал червонец.
И время шло, ни с кем не церемонясь,
и всех оно по кочкам разнесло.
Те в лагерном бараке чифирят,
те в Бронксе с тараканами воюют,
те в психбольнице кычат и кукуют,
и с обшлага сгоняют чертенят.
Евгений Сабуров, «Пороховой заговор»
Первая книга стихов Евгения Сабурова вышла с большим опозданием. В ней собраны вещи семидесятых и восьмидесятых годов, до 1990 года включительно. То есть теоретически книга могла выйти и пять-шесть лет назад. Но именно тогда началась бурная государственная карьера автора, ставшая некоторой неожиданностью даже для него самого, а тем более для людей, знавших Сабурова как литератора по преимуществу.
Надеюсь, что таких людей станет теперь гораздо больше. Есть художественные события, к которым понятие «вчерашний день» неприменимо, и, может быть, сборник «Пороховой заговор» вышел как раз вовремя. Во-первых, новые издательства научились за последние годы выпускать книги, которые не стыдно в руки взять, и книга Сабурова – не исключение. Но не это главное. Есть стихи, которым действительно некуда опаздывать. Едва ли они дойдут до любителей поэзии, пробавляющейся прибаутками или щеголяющей приемами. И это небольшое упущение. Не думаю, что снижается число читателей, ценящих в стихах трезвую интонацию, неаффектированный драматизм и живое движение чувства. Его вибрацию, его завораживающее ритмическое колебание.
Все падает и все взмывает вверх,
как сыплет лепестки и поднимает души
тот ветер, что нам губы сушит,
срывает крыши, покрывает грех.
Кстати, о приемах. Стихи Сабурова живут какими-то вспышками новизны, когда не поданная «в лоб» новация сразу становится особой стилевой повадкой, а та, в свою очередь, – речевым тембром, личной интонацией. Их можно воспринимать и как выполнение сложных формальных заданий, и как особый род дневниковых записей. Неординарная откровенность автора не производит впечатление раздевания на людях хотя бы потому, что относится к другой, смещенной реальности, к состояниям, принадлежащим искусству и жизни одновременно. Это дневник «внутреннего» человека: снов и страхов, любовных смут, грозных или зыбких воспоминаний. Удивительно, что нашему автора (государственному, как мы знаем, человеку) так внятно изматывающее очарование «отложенного» настоящего – неизбывности, неутоленности. Наверное, это и есть сквозная тема «Порохового заговора». Необычной, замечательной, много лет писавшейся и наконец опубликованной книги.
Иван Жданов, «Фоторобот запретного мира»
Поэзия Ивана Жданова давно нашла своих ценителей и свою «культурную нишу». В случае Жданова этот полунаучный термин легко получает какие-то зримые формы и воображается реальной нишей или гротом или пещерой добровольного отшельника, концентрирующего восприятие ради выхода за границы обыденного сознания и обыденной речи. Закону предельной концентрации подчинен и состав сборника «Фоторобот запретного мира».
Книга совсем небольшая: 52 страницы. В нее вошли стихи, тщательно выбранные из того, что было написано Ждановым за много лет – не меньше десяти. Такая сдержанность книге на пользу. Вышедшая в поэтической серии «Автограф», она действительно воспринимается как автограф Жданова – единый многостраничный росчерк его пера, иероглиф его поэтики.
Соответственно сама эта поэтика становится обозримее, понятнее.
Стихи Жданова не в последнюю очередь обязаны своей известностью тем дискуссиям о новой поэтической школе – метаметафоризме или метареализме – которые заполнили литературную периодику в середине восьмидесятых годов. Но как раз эти стихи оказывали слабую помощь в разъяснении сущности «метаметафоры» и ее особой актуальности. Слишком очевидным было их литературное происхождение: Серебряный век и поэтическая метафизика семидесятых годов.
Слишком безусловным и не вполне объяснимым казалось доверие автора высокому слогу и чужой мифологии – языку апробированной, нормативной культуры.
Такие недоумения новая книга Жданова по большей части снимает. Есть какие-то редкие и специальные обстоятельства, при которых пророческая нота не фальшива и не оставляет мрачного, опустошающего впечатления. Обстоятельства голоса, времени, темы – все вместе. Такое совпадение происходит временами в стихах Жданова. Речь уходит в глубину, отделяется от словарных значений, которые здесь подобны играющей условными бликами поверхности. Начинается ровное глухое повествование об одиноком скитании души. Кропотливо, упорно, равномерно вытягивает поэт полоски строк, ряды заветных слов. Как будто не в словах дело, а в самом этом разворачивании, упорстве, напряженном преследовании тени глубоководного смысла.