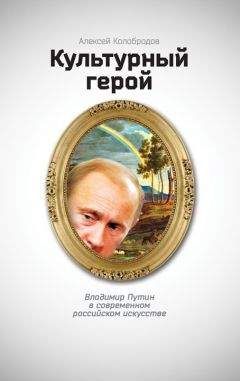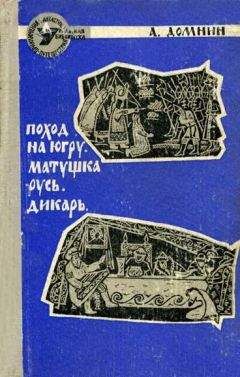Алексей Колобродов - Захар
И только задним числом, на Секирке, Артём вспоминает, что имелся и у Шафербекова свой тотемный зверь – соловецкая чайка:
«Шафербеков однажды забавлялся с чайкой – обвязал крепкой нитью кусок мяса и бросал. Чайка тут же глотала подарок, но на взлёте Шафербеков её подсекал, легко вытягивая кусок мяса за нить. (…) Чайка (…) вернулась с дюжиной других чаек, которые едва не выклевали Шафербекову глаза и пробили до крови башку.
Блатного всё это рассмешило – он будто увидел себе подобных и, отирая с головы кровь, всё продолжал смеяться. Трижды побывавшее в желудке чайки мясо он съел сам, только нить отвязал, и всё».
(Тут, помимо прочего, ещё и дописанный до конца эпизод из чеховской «Каштанки».)
Но, собственно, нам у Шафербекова – единственного из соловецких урок – известен экзотический криминальный эпизод из прошлого:
«Порезал жену, сложил кусками в корзину и отправил по вымышленному адресу в Шемаху».
* * *Прилепин, на первый взгляд, полностью разделяет идею своих предшественников по ГУЛАГ-литературе о «социально-близких»: дескать, лагерная, и шире – Советская власть – шла на определённые послабления блатным, дабы те снизу давили на политических и бытовиков – из тех, что не в ладах с режимом. (Множество авторов выводило подобную политику из якобы присущей Иосифу Сталину криминальной ментальности, приобретённой в свете аналогичного опыта.)
В тему вписывается (хотя и с набором ломающих шаблон подробностей) история взводного Крапина, ненавидящего блатных лютой ненавистью: красноармеец в Гражданскую, затем милиционер, он «превысил полномочия» при допросе некоего бандита, тот скончался. «За бандита, убитого Крапиным, – рассказывает Василий Петрович Артёму, – отомстили ему ужасно: зарезали его десятилетнего сына. Тогда Крапин превысил полномочия ещё раз – и, захватывая некий притон, без всякой надобности застрелил там несколько человек, включая женщину и одного советского административного работника, пришедшего поразвлечься».
Василия Петровича – эдакого, в первой книге «Обители», Вергилия соловецкого ада, служившего, к слову, в колчаковской контрразведке, – злоключения Крапина явно забавляют:
«Крапин, думаю, искренне не понимает, как его, бывшего красноармейца, посадили за убийство нескольких блатных, случайной женщины и пусть даже административного работника – но ведь ставшего на подлый путь! (…)
Для нынешней власти, как ни странно, подонки и воры – близки с точки зрения социальной. А Крапин не может взять в толк: с чего это мерзость общества может быть близкой? В отличие от большевистских идеалистов, Крапин уверен, что перевоспитать их нельзя. И спасать тоже не нужно».
Однако тут же рядом и тот же Василий Петрович несколько уравнивает перекос: «Вы заметили, на Соловках крайне редко бьют каэров».
Далее – реплика Галины Кучеренко – тоже несколько выправляет картину: «(…) Воры и убийцы – все эти блатные! – бессовестно пользуются ближайшим родством к рабочему классу, превращаясь в ярый асоциальный элемент с круговой порукой, пьянством и картёжничеством».
И наконец, по-своему замечательно определяет ситуацию с блатными Фёдор Эйхманис. Главный эксперт – а кто ещё круче: Ягода? Менжинский? Сталин?
«У нас здесь свои классы, своя классовая рознь и даже строй особый – думаю, родственный военному коммунизму. Пирамида такая – сверху мы, чекисты. Затем каэры. Затем бывшие священнослужители, попы и монахи. В самом низу уголовный элемент – основная рабочая сила. Это наш пролетариат. Правда, деклассированный и деморализованный, но мы обязаны его перевоспитать и поднять наверх».
«Пролетариат» для Эйхманиса и его единомышленников – синоним трудящихся, в известной степени «народа» как носителя априорной правды. Правды классовой, политической и правды поведенческой. «По просьбам трудящихся».
Последнее наводит на любопытные размышления относительно сюжетной канвы «Обители».
В конце первой книги привилегированный оркестрант, бывший белогвардеец Мезерницкий покушается на Эйхманиса – и соловецкая жизнь, казавшаяся более или менее размеренной, устоявшейся, погружается в революционную турбулентность. Снова кровь, много крови, смена власти, заговор, направляемый хаос, гробы и трупы, трупы… Запущен механизм перекрёстного возмездия – как будто неведомый Монте-Кристо разом решил привести в действие все накопившиеся за годы смуты планы обоюдной мести, активировать чёрные списки, стравить всех против всех.
Каэры (Мезерницкий, затем Бурцев с командой), пробившись в лагерное начальство, пытаются уничтожить чекистов, чекисты упреждающим ударом казнят Бурцева и его товарищей, прочих заговорщиков загоняя на Секирку, где кончают поодиночке. Приехавшие с проверкой «чужие» чекисты расследуют преступления «местных» чекистов, административных и хозяйственных выдвиженцев, большинство из которых аналогично подводят «под размах».
Конечно, здесь уже никак не битва социальных антагонистов, а война внутри соловецких «элит» в упреждение компроматов, интриг противоборствующих группировок и пр., своеобразный цикл кровавого самоочищения. (Захар Прилепин неоднократно – и с разных позиций – подчёркивает, насколько участники этого дикого спектакля равны себе и друг другу в злодеяниях и мерзости.)
Всё это поразительно напоминает верхушечный террор 1936-1937-1938 гг. в СССР (не раз отмечалось, что Прилепин, используя хронотопом романа один соловецкий год, затрагивает, подобно Солженицыну, иные по времени узлы советского проекта). С его машиной государственного насилия, чьи зубчатые колёса вертелись в разные стороны, но всегда достигался исторически детерминированный эффект, а «верхушечность», разумеется, была весьма условной, – инерционные процессы оказались совершенно неконтролируемыми. Так, Артёма Горяинова во всех этих соловецких штормах мотает, как щепку, и бьёт о стены и скалы. Мужички-лагерники из крестьян Захар и Сивцев осваивают ремесло могильщиков и выглядят не то по-шолоховски, не то по-шекспировски. Гибнет задавленный товарищами по секирскому несчастью владычка Иоанн; рыжий поэт Афанасьев получает свои муки и точку пули в конце.
Да, но где же «пролетарии» этого взъерошенного переворотами мира – блатные? Вроде самый момент для них причаститься кровавой каши, устроить рыбалку в баламутной воде? А они, едва начинается властная свара СЛОНа, незаметно уходят из кадра, растворяются в пейзаже. Привычно разок попадутся на глаза Артёму, пестуя его паранойю, предпримут ещё одну дежурную попытку его подрезать – и исчезнут до следующего соловецкого лета, когда снова всё устаканится. Не объявятся ни в карцерах на Секирке, ни в монастырских темницах, ни в новой роте для «склонных к побегу».
Не есть ли этот поворот – иллюстрация поведенческой модели широких масс в годину «смуты и разврата»? Когда смута и разврат выражаются не в гражданской войне или «великом переломе» (по сути, второй гражданской войне), а во внутриэлитных разборках?
Нет, понятно, что блатные – народ чрезвычайно специфический (см. определение Эйхманиса). Однако другого народа на Соловках у писателя Прилепина для нас нет.
Словом, его отношение к людям «воровского хода» вовсе не столь однозначно, как может показаться поверхностному взгляду. Именно блатных он назначает орудием ветхозаветного возмездия. Но об этом – в следующей главе.
Артём Карамазов: анатомия героя по учебникам истории
Роман Сенчин, писатель, попросил меня оценить его текст «Новые реалисты уходят в историю» («Литературная Россия», № 33–34) и покритиковать – по возможности и по принципу «Платон мне друг…»
Мне постановка вопроса тогда показалась несколько схоластической, как любой сегодняшний разговор о школах и жанрах, когда уместнее говорить об их, жанров, смешении и взаимопроникновении, нежели о смене. Вот эмоция Сенчина была понятной – сродни ностальгическим всхлипам «одноклассников. ру». «Станут взрослыми ребята, разлетятся кто куда». В данном случае лицейское братство «новых реалистов» поодиночке двинулось в историческую романистику. Однако препарируя под «историческим» углом прилепинскую «Обитель», Роман Валерьевич споткнулся о фигуру главного героя – Артёма Горяинова.
И вот этот момент показался знаковым, поводом для попытки разобраться – кто вы, гражданин Горяинов?
* * *Статья Романа – именно писательская, большая и уютная, как обломовский халат. В старых добрых традициях чуть ли не XIX века, когда, выбирая между истиной и друг-Платоном, не жалели ни своего времени, ни чужого места, ни бизнеса книгопродавцев. Поскольку сюжеты рецензируемых книг подробно, до деталей, пересказываются, – иной современный читатель, наткнувшийся на материал Сенчина, возьмётся нахально полагать, что сэкономил на книжном магазине, конспективно и параллельно ознакомившись с объектами разбора.