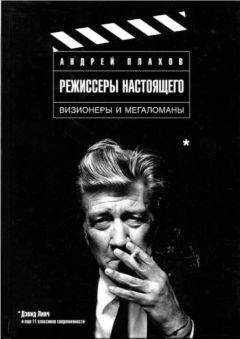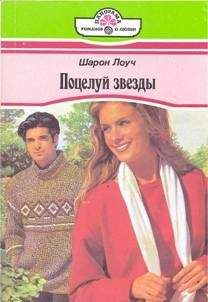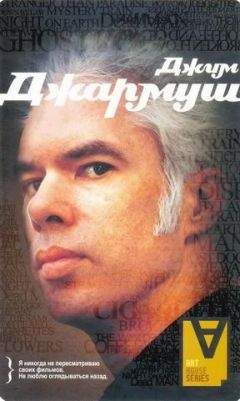Корней иванович - Критические рассказы
Потом через несколько лет он зачеркнул это непраздничное слово и написал:
Чу! кричит: «Парасковья, ау!»[193]
Иногда вместо угрюмый он пишет унылый, это ведь так зловеще рифмуется с другим его излюбленным словом, — могила:
Не говори, что дни твои унылы…
Передо мной холодный мрак могилы…
Знаю, день проваляюсь уныло…
И пугать меня будет могила…
Сопрутся люди, смущены, унылы…
И подвезут охотно до могилы…
Словно как мать над сыновней могилой…
Стонет кулик над равниной унылой…
Касатка порхает над братней могилой…
И плющ зеленеет, и ветер унылый…
Он по самой своей природе — могильщик. Похороны — его специальность. В его книге столько гробов и покойников, что хватило бы на несколько погостов. И какие погребальные заглавия: «Смертушка», «Смерть крестьянина», «Похороны», «Кладбище»,[194] «Гробок», «Могила брата». Один из его романов так и назывался «Озеро Смерти» — а потом стал называться «Мертвым Озером».[195] И какие погребальные метафоры! — людей он называет червями, которые копошатся на трупе:
И на остатках жилья погорелого
Люди, как черви, на трупе копошатся,—
тучи — гробами, Неву — гробницей, землю — мертвецом:
Земля не одевается
Зеленым ярким бархатом
И, как мертвец без савана,
Лежит под небом пасмурным
Печальна и нага.
Снег — это, конечно, «саван», «погребальный покров»!
Как саваном, снегом одета
Избушка в деревне стоит…
В белом саване смерти земля…
На белом, снежном саване…
Словно до-сердца поезд печальный,
Через белый покров погребальный
Режет землю…
И туман у него тоже саван:
В саван окутался Чертов овраг.
Деревенские зимние сумерки для него как бы всемирная смерть:
Как будто весь мир умирает.
Даже литеры в руках у наборщиков кажутся ему мертвецами:
мы литеры бросаем,
Как в яму мертвецов.
Взглянув в окно вагона и увидев дым паровоза, он опрашивает:
Что там? Толпа мертвецов?
Увидев зимний деревенский пейзаж, восклицает:
Картина эта такова, что тут
Гробам бы только двигаться уместно.
Даже на небе у него гробы:
На небо взглянешь — какие-то гробы,
Цепи да гири выходят из туч.
Срубленный лес, по его ощущению, мертвецкая:
Трупы деревьев недвижно лежали.
Похоронив друга и вернувшись с кладбища домой, он продолжает видеть его и сквозь землю в гробу:
Жадный червь не коснулся тебя,
На лицо, через щели гробовые,
Проступить не успела вода.
Ты лежишь как сейчас похороненный,
Только словно длинней и белей
Пальцы рук, на груди твоей сложенных.
Следить за разложением зарытого в землю покойника — обычное пристрастие Некрасова; при этом почти никогда не забывает он могильных червей:
То-то, чай, холодно, страшно в могилушке,
Чай, уж теперь ее гложет, сердечную,
Червь подземельный.
Или:
Гроб бросят не в лужу,
Червь не скоро в него заползет.
Сам покойник в жестокую стужу
Дольше важный свой вид сбережет.
Гробовым, замогильным голосом читал он вслух эти гробовые стихи. «Некрасов читает каким-то гробовым голосом», — записала о нем Штакеншнейдер. «Голос Некрасова звучал совсем замогильной нотой», — вспоминает П. Гайдебуров. «Читал он тихим, замогильным голосом», — вспоминает Л. Ф. Пантелеев.
Некий А. Р. вспоминал: «…манера его [читать стихи] поражала однообразием и унылою монотонностью. Ни понижений, ни повышений тона, все ровно, все одинаково, как шорох песку под колесами медленно-медленно движущегося воза… И манера и слабый голос Некрасова вызвали в слушателях скорбное кладбищенское настроение»[196]
К кладбищенским темам его влекло постоянно.
Только что кончив «Смерть крестьянина», он пишет о смерти крестьянки. — «Темен вернулся с кладбища Трофим»… «Я покинул кладбище унылое»… «Я посетил твое кладбище»… — это у него постоянно. И когда в Риме он затеял описать Петербург, он начал с необозримых кладбищ этого «опоясанного гробами» города и перешел к подробнейшему описанию похорон:
Четверкой дроги, гроб угрюмый…
а потом вспомнил про глухой городишко:
Но есть и там свои могилы…
Когда же ему захотелось пошутить, изобразить нечто веселое и бодрое, — он написал:
Все полно жизни и тревоги,
Все лица блещут и цветут,
И с похорон обратно дроги
Пустые весело бегут.
Кого только он не оплакивает, не хоронит в стихах: и своего брата Андрея, и мать, и Прокла, и Белинского, и артистку Асенкову, и певицу Бозио, и сына Оринушки, и пахаря несжатой полосы, и Добролюбова, и Шевченка, и Писарева, и Крота, и свою Музу, и себя самого, — себя самого чаще всех. Такая у него была потребность — хоронить себя самого, плакать над собственным трупом. Чуть не за тридцать лет до кончины он уже начал причитать над собой:
— «Умру я скоро»… «Скоро я сгину»… «У двери гроба я стою»… «Один я умираю и молчу»… «Теперь мне пора умирать»…
Умирать — было перманентное его состояние. «Он был всегда какой-то умирающий», — выразился о нем Лев Толстой. И не потому, что он был болен, а потому, что такой был у него темперамент. Когда через тридцать лет ему и вправду пришлось умирать, его талант воспрянул и расцвел, словно он только и ждал этой минуты — и полтора года он изливал свои предсмертные вопли в панихидах над собственным гробом. Мастер надгробных рыданий, виртуоз-причитальщик, он был словно создан для кладбищенских плачей. Плакать он умел лучше всех, лучше Пушкина, лучше Лермонтова. Плакала ли Дарья по Прокле или безымянная старуха по Савве, или Орина по Ванюшке, или Матрена по Демушке, он неподражаемо голосил вместе с ними, подвывал их надгробному вою:
Уумер, Касьяновна, уумер, сердечная,
Уумер и в землю зарыт…
Кто, кроме Некрасова, мог бы написать эти строки? Кто мог бы создать это протяжное, троекратное у — для передачи сиротского воя?..
Это умер, дважды стоящее в начале стихов, снова повторяется с тем же эффектом в стихотворении «Мороз Красный Нос»:
Умер, не дожил ты веку.
Умер и в землю зарыт.
Кажется, ни один поэт не мог произнести это умер с таким пронзительным, хватающим за сердце выражением.
К звуку у он чувствовал большое пристрастие и часто пронизывал этим звуком весь стих:
Жену ему не умнуй-у
Чу! Как ухалица ухает.
Трудно, голубчик мой, трудно.
Добуду! (думает Наум).
Думай-у думу свой-у
Слушал имеющий уши,
Думушку думал свой-у[197]
Это был его излюбленный оборот: «думать думу». Не потому ли он так любил это сочетание слов, что здесь ему были обеспечены по крайней мере три у:
— И думу думает она… — Думал я горькую думу… — И невольно думаю думу… — Одумал ты думушку эту… — Думал я невеселые думы… — Лежали, думу думали… — Да ту мы думу думали…
Пронзительным звуком звучит это у в панихидном причитании вдовы:
У-мер, не дожил ты веку,
У-мер и в землю зарыт.
Впрочем, недолго причитала вдова: Некрасов умертвил и ее. Она замерзла в лесу на глазах у читателя — и критика тогда же увидела в этих строках «сладострастное истолкование ужаса смерти».[198]
IVУ него была жажда — рыдать над каким-нибудь обожаемым трупом, любя его в эти минуты так набожно, как не любил его при жизни никогда, ласкаясь и как бы прижимаясь к нему, открывая ему всю свою душу, — покойному, а не живому Белинскому, покойной, а не живой матери, — создавая себе из их могил алтари для изливания вечно кипевших в нем слез.
Желтый, обвислый, измученный хандрой, как чахоткой, он вяло поднимался с дивана и нудил себя выйти на улицу, –
Злость берет, сокрушает хандра,
Так и просятся слезы из глаз…
Нет, я лучше уйду со двора…
Уходил и натыкался на гроб и понуро плелся на Волкове, провожая незнакомого покойника, и все осклизлое петербургское утро бродил по осклизлому петербургскому кладбищу, тщетно отыскивая такую могилу, над которой можно отрыдаться, — и, конечно, он не был бы лириком, если бы, когда он рыдал, вместе с ним не рыдала вселенная, и небеса, и деревья, и птицы: