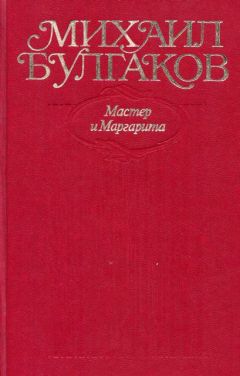Сергей Давыдов - «Тексты-матрёшки» Владимира Набокова
По мере того как укорачивается карандаш, в первой главе «длинный как жизнь любого человека, кроме Цинцинната» (IV, 48), в восьмой главе «укоротившийся более чем на треть» (IV, 98), и, наконец, в предпоследней девятнадцатой главе ставший «карликовым» (IV, 175), растет творчество Цинцинната, который пытается «исписать» страх перед смертью, обезоружить, обезвредить смерть.
А чего же бояться? Ведь для меня это уже будет лишь тень топора, и низвергающееся «ать» не этим слухом услышу. Все-таки боюсь! Так просто не отпишешься.
(IV, 100)Борьба со смертью или, лучше сказать, борьба за бессмертие ведется Цинциннатом на этих неловко исписанных листах, к рассмотрению которых я еще вернусь. Последнее предсмертное желание Цинцинната касается исключительно посмертной творческой судьбы:
«Сохраните эти листы, — не знаю, кого прошу, — но: сохраните эти листы … я так, так прошу, — последнее желание, — нельзя не исполнить. Мне необходима, хотя бы теоретическая, возможность иметь читателя, а то, право, лучше разорвать. Вот это нужно было высказать. Теперь пора собираться».
(IV, 167)Чем короче становится карандаш, тем слабее оказывается страх Цинцинната перед смертью. Последнее написанное им слово на последнем листе зачеркнуто. Это слово — «смерть» (IV, 175).
В первом разделе главы говорилось об эпизоде с ночной бабочкой, принесенной на съедение тюремному пауку, но избежавшей смерти, — о событии, после которого Цинциннат зачеркивает слово «смерть». Этот эпизод я отнес к числу гностических примет. Контекстные координаты мотива бабочки помогают определить его семантическую функцию в набоковской художественной системе. Во-первых, здесь нетрудно усмотреть вмешательство автора-энтомолога, который послал великолепную, «величиной с мужскую ладонь», «с пятном в виде ока» (IV, 173) бабочку в камеру Цинцинната накануне казни, чтобы с помощью этой приметы указать Цинциннату на призрачность и несостоятельность смерти. Антропоморфные атрибуты этой «божественной» приметы — деликатный намек на присутствие личности автора-человека.
Во-вторых, в связи с ночной бабочкой, избежавшей смерти, нельзя не вспомнить рассказ Набокова «Рождество», вошедший в сборник «Возвращение Чорба». У героя этого рассказа только что умер сын. Перед смертью, в бреду мальчик рассказал отцу об индийской бабочке. В сочельник отец перевез «тяжелый, словно всею жизнью наполненный» гроб в деревню (I, 164). После похорон он зашел в комнату сына, где среди прочих вещей нашел «коробку из-под английских бисквитов с крупным индийским коконом» (I, 168). Сын вспоминал о нем, когда болел, и жалел, что оставил в деревне, но утешал себя тем, что «куколка в нем, вероятно, мертвая» (I, 166). Просматривая дневник сына, отец думал о смерти:
«Завтра Рождество, — скороговоркой пронеслось у него в голове. — А я умру. Конечно. Это так просто. Сегодня же…»
<…>
Смерть, — тихо сказал — Слепцов … На мгновение ему показалось, что до конца понятна, до конца обнажена земная жизнь — горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишенная чудес…
(I, 167–168)Но в этот момент что-то щелкнуло. Это в теплой комнате прорвался кокон, и на глазах отца расправила крылья «до предела, положенного им Богом … громадная ночная бабочка, индийский шелкопряд, что летает, как птица, в сумраке, вокруг фонарей Бомбея», и крылья «вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья» (I, 168). В этой причудливой метаморфозе — превращении умершего незадолго до сочельника сына в родившуюся в рождественскую ночь индийскую ночную бабочку — реализуется в западном, христианском контексте восточный миф о переселении души, причем «гроб» и «кокон» становятся эквивалентами. Как в «Рождестве», так и в «Приглашении на казнь» ночная бабочка служит приметой, указывающей на несостоятельность смерти.
В-третьих, мотив бабочки у Набокова связан с темой бессмертия и во внепоэтическом плане. Энтомологические открытия Набокова в этой области обеспечили ему своеобразное бессмертие на страницах энциклопедий и на наклейках музейных экспонатов, о чем Набоков-поэт говорит в английском стихотворении «A Discovery» (1943):
I found it and I named it, being versed
in taxonomic Latin; thus became
godfather to an insect and its first
describer — and I want no other fame.
<…>
Dark pictures, thrones, the stones that
pilgrims kiss,
poems that take a thousand years to die
but ape the immortality of this
red label on a little butterfly{209}.
Кратко подведем итоги. Подобно посланнику из гностического мифа, автор сделал своим избранником Цинцинната как существо близкой ему культуры. Он положил на стол Цинцинната листы бумаги и длинный карандаш и продиктовал ему первые слова. В камере смертника родился поэт. На исписанных листах Цинциннат ведет борьбу со смертью. Причастность к тайне творчества, «гнозис», спасительное познание — вот что передал своему избраннику «сын словес» Сирин, создавший Цинцинната по образу и подобию своему писателем, творцом. Конечность существования преодолевается через творчество, в котором заключена единственная надежда смертного на бессмертие.
Но не всякое творчество может заслужить право на посмертное пребывание в литературном раю. Напомним, что незадачливому литератору Илье Борисовичу в этом было отказано — так же как и талантливому, но отнюдь не гениальному писателю-убийце Герману. Только истинному и непогрешимому искусству вручает Сирин билет в свой рай. Рассмотрим поэтому, как формируется творчество Цинцинната, в чем заключаются его недостатки и достоинства и каким образом сосуществуют в этом «романе-матрешке» слово героя со словом автора.
Цинциннат — начинающий писатель. Исписанные листы клетчатой бумаги — его первый литературный опыт, типичный для незрелого, но талантливого, еще только формирующегося автора. Стиль Цинцинната, насыщенный междометиями и многоточиями, недоговоренностями и повторами, скачками от предмета к предмету и назойливым преследованием одной темы можно назвать косноязычием или даже высоким косноязычием.
Поначалу тайна творчества не раскрывается. Цинциннат, «дрожа над бумагой, догрызаясь до графита» карандаша, ведет упорную борьбу за слово. Ему кажется, что он «сойдет с ума от щекотки, если хоть как-нибудь не выразится» (IV, 99). Целый ряд «topoi ineffabilitates», о которых я уже писал в связи с неизреченностью гностического бога, — не что иное, как отчаянные усилия Цинцинната овладеть словом и побороть косноязычие.
Вот опять чувствую, что сейчас выскажусь по-настоящему, затравлю слово. Увы, никто не учил меня этой ловитве, и давно забыто древнее врожденное искусство писать…
(IV, 100)Или:
И все это — не так, не совсем так, — и я путаюсь, топчусь, завираюсь, — и чем дольше двигаюсь и шарю в воде, где ищу на песчаном дне мелькнувший блеск, тем мутнее вода, тем меньше вероятность, что найду, схвачу. Нет, я еще ничего не сказал или сказал только книжное…
(IV, 102)В контексте художественного творчества гностический символ души — «перл» — это «живое слово», «слово-Психея». Такое значение вскрывается в книге Набокова о Гоголе:
Русские, которые считают Тургенева великим писателем или судят о Пушкине по гнусным либретто опер Чайковского, лишь скользят по поверхности таинственного гоголевского моря и довольствуются тем, что им кажется насмешкой, юмором или броской игрой слов. Но водолаз, искатель черного жемчуга, тот, кто предпочитает чудовищ морских глубин зонтикам на пляже, найдет в «Шинели» тени, сцепляющие нашу форму бытия с другими формами и состояниями, которые мы смутно ощущаем в редкие минуты сверхсознательного восприятия.{210}
Но даже когда Цинциннату удается, как жемчужину в глубинах вод, найти и схватить искомое слово, «извлеченное на воздух», оно «лопается, как лопаются в сетях те шарообразные рыбы, которые дышат и блистают только на темной, сдавленной глубине» (IV, 101). Таким образом, как «перл в кровавом жиру акулы» (IV, 98), так и «мелькнувший блеск на песчаном дне» (IV, 102) сводятся к понятию поэтического слова, «слова-психеи».
Вопреки приближающейся казни у Цинцинната нет «никаких, никаких желаний, кроме желания высказаться — всей мировой немоте назло» (IV, 99). Здесь можно привести еще одно интересное сопоставление с гностицизмом. Согласно валентинианцу Марку, «конец видимого мира наступит тогда, когда будут исчерпаны все возможные сочетания звуков и букв… и все произносимое (т. е. все получившее Божественный импульс к существованию) сольется в один конечный звук, подобно тому, как человеческая молитва заканчивается общим возгласом: аминь».{211}
Попытки Цинцинната пробиться к «живому слову» чрезвычайно неловки, но иногда под его пером возникают необыкновенно точные детали, удивительно меткие, двумя штрихами набросанные портретные миниатюры, как, например, описание Марфиньки в пятой главе: