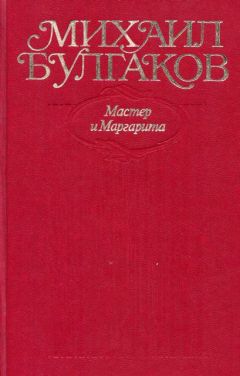Сергей Давыдов - «Тексты-матрёшки» Владимира Набокова
Каким же образом «сын словес» указывает своему избраннику истинный и спасительный путь? В тексте «Гинзы» посланник дает гностическому избраннику исписанные листы бумаги:
Он вручил мне свои листы
С молитвами и порядком молитв,
И опять он вручил мне несколько листов,
И мое больное сердце нашло в них исцеление.
В первой главе автор кладет на стол в камере Цинцинната «чистый лист бумаги» и «изумительно очинённый карандаш» (IV, 48). Герой правильно истолковал этот знак и уже в четвертой главе принялся за «небольшой труд». «Кто-нибудь когда-нибудь прочтет и станет весь как первое утро в незнакомой стране» (IV, 74). Первые написанные Цинциннатом слова подсказаны прямо автором. Его голос проникает в камеру одновременно с появлением книг из тюремной библиотеки. (Присутствие книги в текстах Набокова почти всегда служит сигналом, указывающим на близость автора.) «Какая тоска. Цинциннат, какая тоска! Какая каменная тоска, Цинциннат…» (IV, 71), — внушает авторский голос. «Тоска, тоска, Цинциннат. Опять шагай, Цинциннат, задевая халатом то стены, то стул» (IV, 72), — продолжает анапестический голос автора навязывать Цинциннату свою тему.
Если человек обладает Гнозисом, он уже — существо свыше. Когда его призывают, он слышит, откликается и обращается к Тому, кто позвал его, чтобы вознестись к Нему. И он знает, зачем он был призван. Обладающий Гнозисом исполняет волю Того, кто позвал его, желает делать то, что любо Ему, и получает утешение.
(Евангелие Истины){199}Призыв доходит до Цинцинната. Его первые строки подхватывают внушенную автором тему: «Но разве могут домыслы эти помочь моей тоске? Ах, моя тоска, — что мне делать с тобой, с собой?» (IV, 74). В конце записи вновь повторяется та же тема: «Какая тоска, ах, какая…» (IV, 75).
Столкновение со словом высекает творческую искру. С первых же строк Цинциннат обнаруживает в себе до сих пор неведомый ему творческий порыв:
Я не простой… я тот, который жив среди вас… Не только мои глаза другие, и слух, и вкус, — не только обоняние, как у оленя, а осязание, как у нетопыря, — но главное: дар сочетать все это в одной точке…
(IV, 74)Так Цинциннат осознает и формулирует свое призвание, свою отмеченность. В камере смертника рождается поэт. «Гносеологическая гнусность» — это восприятие мира всеми пятью чувствами, это художественная одаренность, которой наделил Цинцинната его творец. Вдохновение — это и есть «пневма», только на языке светской культуры. Теперь уничтожению начинает противостоять творческое начало. Единственный вопрос, который мучает Цинцинната: «Успею ли я?» «Зеленое, муравчатое Там» (IV, 53) Тамариных Садов, которые казались Цинциннату единственным светлым островком в его жизни; дубовая роща, где он когда-то гулял и целовался с Марфинькой, уступают на этой стадии место новому лучезарному «там» творчества:
Там, там — оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались; там все поражает своей чарующей очевидностью, простотой совершенного блага; там все потешает душу, все проникнуто той забавностью, которую знают дети…
(IV, 101–102)Это назойливое «там» в переводе с языка теологии на язык поэзии превращается в эстетическое «там», в «là-bas» из стихотворения Бодлера «Приглашение к путешествию» — название, как нельзя более подходящее для толкования «Приглашения на казнь». В стихотворении есть рефрен:
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.[14] {200}
Кроме того, лучезарное «там» — лейтмотив стихотворения Руперта Брука, переведенного Набоковым на русский язык.{201} В этом стихотворении о тропических рыбах иронически развивается религиозная тема. Пересказывая его, Набоков восхищенно пишет:
В этих стихах, в этой дрожащей капле воды, отражена сущность всех земных религий. И Брук сам — «грезящая рыба», когда, заброшенный на тропический остров, он обещает своей гавайской возлюбленной совершенства заоблачного края, «где живут Бессмертные, — благие, прекрасные, истинные, — те Подлинники, с которых мы — земные, глупые, скомканные снимки. Там — Лик, а мы здесь только призраки его. Там — верная беззакатная Звезда и Цветок, бледную тень которого любим мы на земле. Там нет ни единой слезы, а есть только Скорбь. Нет движущихся ног, а есть Пляска. Все песни исчезнут в одной Песне. Вместо любовников будет Любовь…»
(V, 730)Нет сомнения, что новое «там» Цинцинната наполнено новым, поэтическим содержанием. Речь идет об области творчества, о мире, созданном в произведении истинного искусства. О таком мире Набоков написал:
Для меня художественное произведение существует лишь постольку, поскольку оно дает мне то, что грубо можно назвать эстетическим блаженством, иначе говоря, ощущением, что я каким-то образом причастен к тем сферам бытия, где искусство (любознательность, нежность, доброта и восторг) является нормой.{202}
По мере того как Цинциннат, перерождаясь, становится поэтом, прежнее «там» Тамариных Садов сменяется новым «там» творчества. Этот переход сопровождается причудливыми метаморфозами введенного в роман мотива дерева. «Древо» — центральный символ в гностических мифах. Для примера приведу гностическое описание «лжерая» из апокрифического Евангелия Иоанна:
Первый архонт поместил Адама в рай, сказав, что здесь будет «наслаждение» для него. Он попытался обмануть его, ибо наслаждение их горько и красота их беззаконна. Их наслаждение — обман, и их древо — вражда. Их плод — яд, от которого нет исцеления, и их обещания — смерть. Но их древо было посажено как «древо жизни». Я разоблачу для тебя тайну их «жизни» — это Ложный Дух.{203}
В «Приглашении на казнь» мотив дерева составляет определенный «тематический узор».{204} Во-первых, «дубы» метонимически характеризуют «Тамарины Сады». Мотив «дуба» тесно связан с любовью Цинцинната к Марфиньке: «И все-таки: я тебя люблю. Я тебя безысходно, гибельно, непоправимо… Покуда в тех садах будут дубы, я буду тебя…» (IV, 82). Во-вторых, «дуб» прямо связан с темой смерти. Плаха, на которой казнят Цинцинната, — «покатая, гладкая дубовая колода, таких размеров, что на ней можно было свободно улечься, раскинув руки» (IV, 184) (намек на распятие). В-третьих, мотив дуба сопрягается с темой творчества. «Дуб» («Quercus») название романа, который читает Цинциннат. Прямую связь между творчеством и деревом Набоков раскрывает и в своей автобиографии. Говоря о творческом вдохновении, он пишет:
…когда я ныне впадаю в этот давний транс, я совершенно готов, очнувшись, очутиться высоко на некоем дереве, над крапчатой скамейкой моего отрочества, прижимаясь животом к толстой, удобной ветке и покачивая рукой среди листьев, по которым ходят тени других листьев.{205}
Здесь мы, конечно, имеем дело с реализацией метафоры «дерево — книга», причем, «листья» соответствуют «листам».{206} Итак, в ожидании казни на дубовой плахе, под впечатлением от «знаменитого романа» о дубе меркнут воспоминания о дубах Тамариных Садов, и их «зеленое, муравчатое Там» уступает место новому «там» творчества.
О том, что развертывание этого узора внутренне сопряженных мотивов намеренно, свидетельствует еще одно обстоятельство. По дороге на лобное место Цинцинната везут мимо его дома:
Цинциннат не хотел смотреть, но все же посмотрел. Марфинька, сидя в ветвях бесплодной яблони, махала платочком…
(IV, 182)Здесь раскрывается ложная природа «древа познания», связанного с земной любовью. Образу Марфиньки, сидящей в ветвях «бесплодной яблони», противостоит образ автора, сидящего высоко в ветвях дуба. С него в одиннадцатой главе в камеру Цинцинната, в тюремный бутафорский сон героя падает плод — «бутафорский желудь» (IV, 122). В бутафорском мире, где все подлежит сомнению, конечно, и сны наполнены бутафорией. А может быть, желудь оказывается бутафорией еще и по той причине, что он — плод чужого искусства, в то время как Цинциннат пытается создать свое собственное произведение. Появление желудя с «древа творца» побуждает Цинцинната к собственному творчеству.
В тюремной камере новорожденный писатель Цинциннат создает в течение 20 дней (каждому дню соответствует одна глава романа) собственное литературное произведение, исповедь. Эта исповедь состоит из писем, дневниковых записей, воспоминаний, философских этюдов. За исключением восьмой главы, которая полностью принадлежит Цинциннату, эти фрагменты разбросаны по всему роману, начиная с первой и кончая девятнадцатой главой.{207} В совокупности написанное Цинциннатом составляет одну десятую текста романа (приблизительно 20 страниц из 200). Карандаш, этот «просвещенный потомок указательного перста» (IV, 48), несколько исписанных листов и слабая надежда на бессмертие созданных строк — вот все, чем Цинциннат отвечает на сделанное ему приглашение на казнь. Герой ясно осознает, что единственное спасение, на которое заключенный может рассчитывать в тюремной жизни, — его собственное воображение. Целиком отдаваясь воображению и воспоминаниям, Цинциннат как бы повторяет набоковский софизм о том, что «и память, и воображение являются формами отрицания времени»,{208} и наполняет этот софизм конкретным смыслом: отрицанием окончательности, смерти.