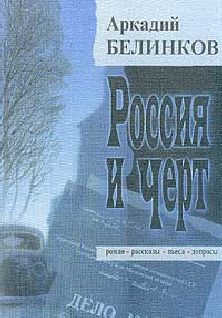Аркадий Белинков - Юрий Тынянов
Тыняновский вариант взаимоотношений художника и революции оказался более точным, чем вариант О. Форш[65].
И есть еще нечто очень важное в сцене прощания. «Сень уединения», о которой говорит Пушкин, остается позади: «Нет, нет, и это уже прошло. Не будет уединения, не будет отдыха». Позади остается — Пушкин. Тынянов рискует оставить Пушкина (раннего) позади Кюхельбекера, потому что «полчаса назад Рылеев принял его (Кюхельбекера. — А.Б.) в общество». Кюхельбекер — декабрист, и в этом его преимущество по сравнению с Пушкиным. Тынянову далеко не безразлично мировоззрение писателя, и он сталкивает архаиста Кюхельбекера с Пушкиным именно на общественной теме не случайно. Это одна из наиболее важных проблем его научной деятельности — архаизм и общественная линия русской литературы, архаисты и Пушкин. Гражданские мотивы в творчестве Пушкина Тынянов связывает с влиянием архаистов.
(Борьба архаистов с карамзинизмом шла за общественную тему, и поэтому естественно, что декабристская литература преимущественно тяготела к архаистам. Именно архаистская линия оказалась преобладающей во время двух важнейших исторических событий первой четверти века — Отечественной войны и восстания 14 декабря. Войну 1812 года, несомненно, выиграли архаисты. Идеологическая система декабризма тяготела к гражданской тематике и поэтому была тесно связана с архаизмом.)
Пушкинские стихи о лицейской годовщине для Кюхельбекера — «прошлое». Для него «наступает… решительный срок» и начинается «дело», о котором еще в юности говорил Пущин, вводя его в круг будущих декабристов. Но, простившись с прошлым, Кюхельбекер отправляется в страну, из которой «вряд ли есть возврат». Но это очень далеко от безвыходности, потому что и прошлое и настоящее в романе конкретны и герой относится к ним без заранее обдуманного намерения.
Слова «радостно», «весело» впервые появляются в самой трагической главе книги, в главе о восстании.
Только в утро того дня, когда произошло восстание, «все шло так, как должно было идти».
Все неожиданно и удивительно в этот день. Привычные вещи и люди, надоевшие и примелькавшиеся, оказались неожиданными и новыми. Появляется Семен, слуга, проживший с ним несколько лет. «Вильгельм в первый раз за много месяцев заметил его». Он замечает его именно в этот день потому, что этот день — необыкновенный: все в этот день обернулось по-новому. Он замечает то, что не замечал раньше, потому, что сегодня все события и люди повернуты неожиданно и непривычно. И в этот день выясняется, что «беспременно жить надо». Жизнь была бесцветной и тусклой, как обсохшие на солнце морские камни. Но этот день облил старые камни свежей водой, и они засветились неподозреваемыми красками.
Но в оптимистическую тему сначала осторожно, а потом все более настойчиво вводится «похоронный стук барабана».
Сначала обе темы идут рядом и уживаются. На одной странице рассказано и о чистом белье, которое надевают, зная, что могут ранить или убить, и о том, что все шло, как должно было идти. Потом тема поражения и гибели все больше начинает теснить тему праздничности и под орудийный раскат побеждает ее.
И тогда приходит иная тема. Это тема нового времени и новых героев-победителей. С фраз об этом времени Тынянов начинает второй роман: «На очень холодной площади в декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось… Лица удивительной немоты появились сразу, тут же на площади, лица, тянущиеся лосинами щек, готовые лопнуть жилами. Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны, и остзейская немота Бенкендорфа стала небом Петербурга».
После поражения восстания повествовательную власть в «Кюхле» захватывают новые герои.
Еще задолго до этого сказано: друг Николая Ивановича Греча — Максим Яковлевич фон Фок, директор особой канцелярии министерства внутренних дел (тайная полиция), «ждал своего часа, он аккуратно вел дела, добровольно, на всякий случай». Максим Яковлевич дождался своего часа и стал «внушителен в своем новом мундире». Этот час наступил после того, как по Петровской площади стали бродить «чужие люди, как темные птицы».
Темные птицы забредают в следующую главу.
Героями новой главы русской истории становятся литераторы Булгарин и Греч, с. — петербургский обер-полицеймейстер Шульгин 1-й, военный министр Татищев, генерал-губернатор Паулуччи, генерал-лейтенант Гогель 2-й, генерал-от-инфантерии Римский-Корсаков, Виленский полицеймейстер Шлыков.
Новые герои — «чужие люди» — появляются «сразу, тут же на площади», и повествование переходит к ним. До этого повествование лишь изредка только касалось их. Глава о восстании кончается так: «Петровская площадь — как поле, взбороненное, вспаханное и брошенное. На ней бродят чужие люди, как темные птицы». Следующая глава начинается: «1. Николай Иванович (Греч. — А.Б.) провел тревожный день… он поехал к Максиму Яковлевичу фон Фоку». «2. К концу дня Фаддей Венедиктович (Булгарин. — А.Б.) совсем растерялся… Полицеймейстер Шульгин сидел за столом…»
До всего этого Николай Иванович и Фаддей Венедиктович жили как-то не вполне уверенно, как-то не найдя своего настоящего места и положения, следуя лишь какому-то смутному призванию. В сущности, только впрок, можно сказать, на всякий случай, Фаддей Венедиктович записывает «что-то в тетрадку, поочередно смотря на Рылеева, Бестужева и Кюхельбекера» (так картинно представлялись Тынянову доносчики далекой эпохи), а Николай Иванович, в котором Максим Яковлевич, тоже еще не обретший своего настоящего места и положения, так «ценил… тонкость литературных наблюдений», опять же, в сущности, только на всякий случай сообщал нечто такое, отчего «в аккуратных папках… прибавлялась новая справка, за особливым нумером. Коллежский асессор Вильгельм Карлович Кюхельбекер не был забыт среди этих справок». Но все это только на всякий случай, впрок и с неясной надеждой.
Колебания, неопределенность в день восстания ставят Греча и Булгарина в весьма затруднительное положение: «Кто победит? Если Рылеев, — придется Николаю Ивановичу рассчитываться за дружбу с Максимом Яковлевичем фон Фоком. Если царь, — ох, может попасть Николаю Ивановичу за его отчаянный либерализм: какие он речи на собраниях произносил, что в его типографии в декабре печаталось!» [66] Это те же весы, на которых взвешивается время, и во что бы то ни стало надо удержаться на падающих и взлетающих чашках.
Но после поражения восстания все становится на свое место. Все-таки Рылеев — «Робеспьер Федорович», сказавший Булгарину, что, «если революция совершится, мы тебе на твоей «Северной пчеле» голову отрубим», страшнее. Царь же, несомненно, сумеет «различить между человеком зрелым, отцом семейства… и… головорезами». В связи с этим Николай Иванович бежит к фон Фоку засвидетельствовать свою благонамеренность и становится «специалистом по Кюхельбекеру», которого разыскивает полиция, а Фаддей Венедиктович с готовностью сообщает приметы и даже в порыве усердия что-то такое, что «до примет не относится». Вон они! Вон они! Королевские стукачи, тамбурмажоры, барабанщики империи! Вон они, не сгибаясь, идут по дорогам истории.
Булгарин и Греч в романе написаны не как традиционные и широко известные мерзавцы, приспособленные специально для предательства и эпиграмм, а как мерзавцы с развитием характеров, становящиеся таковыми не только по врожденной склонности или по случайному расположению духа, но под влиянием времени, когда «Россией правили безграмотные монахи, которые грызлись друг с другом, цензура не пропускала стихов к женщинам, если улыбки их в стихах называли небесными», когда «правительство отличалось непостоянством, и в управлении Государственном не было никакого положительного, твердого плана»[67] когда «у нас указ на указ: одно разрушает, другое возобновляет и на каждый случай найдутся многие узаконения, один с другими несогласные»[68], когда «был введен идеальный порядок наказаний». У мерзавцев были газета, литературная теория, многочисленные читатели и общественный резонанс. Они были классиками хороших взаимоотношений с самодержавием и создали длинную, успешно развивавшуюся, набиравшую силы и опыт традицию. Это не значит, разумеется, что время может сделать мерзавцем каждого. Несомненно, нужна и субъективная предрасположенность к тому, чтобы стать таковым. Но социальный смысл явления не в субъективной предрасположенности, а в исторических обстоятельствах, создающих лучшие или худшие условия существования и развития.
С мерзавцев Тынянов начинает новую главу «Кюхли», новую главу русской истории. И первое имя, которое стоит в первой главе «Смерти Вазир-Мухтара», — имя Булгарина. Булгарин стоит у входа в новый роман, в новую эпоху русской истории. В романе, первую главу которого предваряет имя Булгарина, темы измены, бесплодия и «уксусного брожения в крови» играют важнейшую роль.