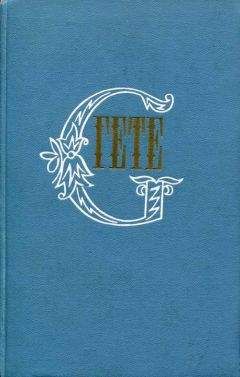Иоганн Гете - Собрание сочинений в десяти томах. Том десятый. Об искусстве и литературе
Я. Разрешите и мне вставить словечко!
Гость (не без оттенка презрительности). Весьма охотно, но, если только возможно, — не о призраках.
Я. Я могу сказать кое-что о поэзии древних, в искусствах я недостаточно сведущ.
Гость. Очень сожалею! Тогда нам трудно будет сговориться.
Я. И все же все изящные искусства находятся в близком родстве между собой, и поклонникам различных искусств следовало бы понимать друг друга.
Дядюшка. Давайте послушаем!
Я. Древние трагические поэты поступали с материалом, который они обрабатывали, совершенно так же, как художники и скульпторы, если, конечно, эти гравюры, изображающие семейство Ниобеи, не окончательно отклоняются от оригинала.
Гость. Они, конечно, сносны и дают хотя и несовершенное, но довольно верное понятие об оригиналах.
Я. Ну что ж, тогда мы можем взять их за основу.
Дядюшка. Что вы хотите сказать о поведении древних трагиков?
Я. Они весьма часто, особенно в раннюю пору, выбирали невыносимые сюжеты, ужасающие события.
Гость. Вы находите невыносимыми древние сказания?
Я. Разумеется! Приблизительно в той же мере, как и ваше описание Лаокоона.
Гость. Вы, стало быть, находите его отвратительным?
Я. Простите меня! Разумеется, не ваше описание, а описываемое.
Гость. Следовательно, произведение искусства?
Я. Ни в коем случае. Но то, что вы в нем усмотрели, сказание, рассказ, остов, то есть то, что вы называете характерным, ибо если Лаокоон предстал бы перед нашим взором таким, как вы его описали, он бы заслуживал, чтоб его в тот же миг разнесли на куски.
Гость. Вы сильно выражаетесь.
Я. Это дозволено обеим сторонам.
Дядюшка. Ну, а теперь перейдем к древним трагикам.
Гость. К невыносимым объектам.
Я. Совершенно верно! Но и к их обработке, делающей все переносимым, прекрасным и обаятельным.
Гость. Это, по-видимому, достигается простотой и величием?
Я. Вероятно.
Гость. Смягчающим принципом красоты?
Я. Наверно, так.
Гость. Следовательно, трагедии не были страшны?
Я. Не слишком, поскольку мне известно и если уметь внимать самому поэту. Разумеется, когда в поэзии видят только содержание, положенное в основу поэтического творения, когда о произведениях искусства говорят как о действительных событиях, тогда, пожалуй, и Софокловы трагедии покажутся отталкивающими и отвратительными.
Гость. Я не берусь судить о поэзии.
Я. А я об изобразительных искусствах.
Гость. Да, пожалуй, самое лучшее, если каждый останется при своей области.
Я. И все же существует связующая точка, в которой объединяются воздействия всех искусств, как словесных, так и изобразительных, и из которой вытекают все их законы.
Гость. И эта точка?..
Я. Человеческая душа.
Гость. Да, да, да, это в обычае новейших господ философов — все пересаживать на свою почву. Что ж, так, пожалуй, и проще: подгонять мир к известной идее куда удобнее, чем подчинять свои представления смыслу вещей.
Я. Здесь речь идет не о метафизическом споре.
Гость. От которого я бы попросил меня уволить.
Я. Я допускаю, что природу можно мыслить независимо от человека, искусство же вынуждено с ним считаться, ибо оно существует благодаря человеку и для человека.
Гость. К чему это клонится?
Я. Ведь и вы, признав характерное целью искусства, приглашаете в судьи рассудок, способный это характерное опознать.
Гость. Безусловно. То, чего не постигает мой разум, для меня не существует.
Я. Но человек ведь не только мыслящее, но одновременно и чувствующее существо. Он нечто целостное, единство различных сил, тесно связанных между собой. К этому-то целому и должно взывать произведение искусства, оно должно соответствовать этому разнообразному единству, этому слитному разнообразию.
Гость. Не заводите меня в лабиринт, ибо кто поможет нам оттуда выбраться?
Я. Тогда самое лучшее прекратить разговор и каждому остаться на своей позиции.
Гость. Я, во всяком случае, своей не покину.
Я. Может быть, мне удастся быстро найти средство, чтобы один из нас сумел если не посещать другого на его позиции, то, по крайней мере, за ним наблюдать.
Гость. Назовите это средство.
Я. Представим себе на минуту искусство в его возникновении.
Гость. Хорошо.
Я. Проследим путь произведения искусства к совершенству.
Гость. Я могу за вами следовать только по пути опыта. Крутые дорожки спекулятивного мышления — не для меня.
Я. Вы разрешите мне начать с самого начала?
Гость. Прошу!
Я. Человек чувствует влечение к какому-нибудь предмету, будь это даже только живое существо.
Гость. Например, к этой смирной комнатной собачке.
Юлия. Поди сюда, Белло, тебе выпала немалая честь служить примером в подобном споре.
Я. Право же, собачка достаточно мила! И, почувствуй человек, которого мы здесь имеем в виду, страсть к подражанию, он бы, несомненно, попытался каким-нибудь способом изобразить это создание. Допустим даже, что подражание ему вполне удалось, но и тогда мы мало от этого выиграем, ибо в результате получим всего-навсего двух Белло вместо одного.
Гость. Я не хочу перебивать вас и жду, что из этого получится.
Я. Представьте себе, что человек, которого мы за его талант будем в дальнейшем называть художником, на этом не успокоится, что его склонность покажется ему слишком узкой, слишком ограниченной, что он пустится на поиски других индивидуумов, других вариаций, видов, пород, так что в конце концов перед ним очутится уже не существо, а понятие о существе, и его-то он и изобразит средствами своего искусства.
Гость. Браво! Это будет человек в моем вкусе! И произведение искусства у него, несомненно, получится характерным.
Я. Безусловно.
Гость. На этом я бы успокоился и ничего больше не стал бы требовать.
Я. А мы подымемся выше.
Гость. Я отстану.
Дядюшка. Я же для пробы пойду с вами.
Я. Благодаря этой операции, несомненно, возникает канон — образцовый, ценный для науки, но не удовлетворяющий душу.
Гость. А как вы хотите удовлетворить чудаческим требованиям этой милой души?
Я. Здесь нет никакого чудачества, просто душа не позволяет посягать на свои справедливые запросы. Старое сказание повествует о том, как однажды элохимы сговаривались между собой: «Давайте сделаем человека по нашему образу и подобию». А следовательно, и человек может с полным правом сказать: «Давайте сделаем богов по нашему образу и подобию».
Гость. Ну, здесь мы попадаем в весьма темную сферу!
Я. Существует только один свет, чтобы осветить ее.
Гость. И это?
Я. Разум.
Гость. Трудно решить, свет ли это или блуждающий огонек.
Я. Не будем его называть по имени, а лучше спросим себя, какие требования дух предъявляет к произведению искусства. Здесь не только должна быть удовлетворена известная ограниченная склонность и любознательность, не только упорядочены и успокоены знания, которыми мы обладаем, здесь жаждет пробуждения то высшее, что в нас заложено, мы хотим почитать и сами чувствовать себя достойными почитания.
Гость. Я перестаю понимать вас.
Дядюшка. А я, кажется, могу в известной степени следовать за его мыслью, и мне хочется на примере показать вам, как далеко я пойду за нею. Предположим, что тот художник отлил из бронзы орла, который прекрасно выражает все признаки своей породы, но вот он пожелал посадить его на Юпитеров скипетр. Думаете ли вы, что его орел вполне подойдет туда?
Гость. Это зависит от многого!
Дядюшка. А я скажу — нет! Художнику пришлось бы придать ему еще кое-что.
Гость. А что же именно?
Дядюшка. Это, конечно, трудно определить.
Гость. Не сомневаюсь.
Я. Но, вероятно, это можно истолковать приблизительно.
Гость. Дальше!
Я. Он должен был бы сообщить орлу то, что он сообщил Юпитеру, чтобы сделать его богом.
Гость. Что же это такое?
Я. То божественное начало, которое, конечно, осталось бы нам неизвестным, если бы человек сам не почувствовал и не воссоздал его.