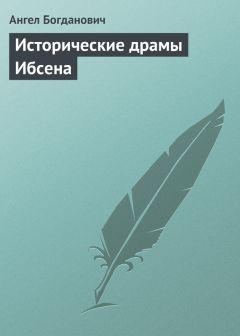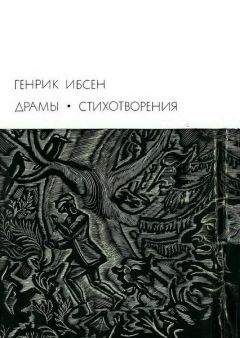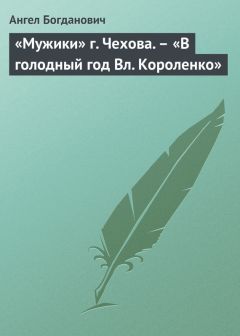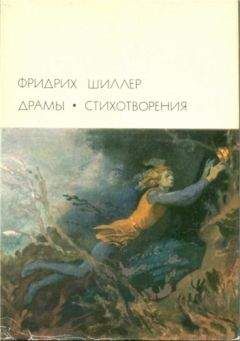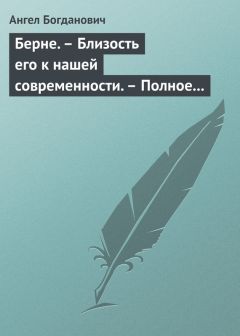Николай Добролюбов - Стихотворения Ивана Никитина
Все это было естественно и понятно в ту пору всеобщего увлечения воинственным величием России; но все это прошло, и поэты стараются уничтожать следы тогдашних увлечений в полных собраниях стихов своих. Теперь все это направление отдано уже в исключительную и неотъемлемую собственность г. Лилиеншвагера, переводчика австрийских стихотворений Якова Хама.
Итак, г. Никитин хорошо сделал, что выбросил из нового издания барабанно-патриотические стихотворения военного времени. Не менее заслуживает одобрения и уничтожение им стихотворений метафизического свойства, как, например, «Кладбище», «Успокоение», «Новый завет», «Сладость молитвы» и т. п. Все это были – или риторические упражнения на заданную тему, например о бессмертии души человеческой, об ограниченности человеческого разума и т. п., или же весьма близкие подражания «думам» Кольцова. Изгнание их из нынешнего издания стихотворений г. Никитина доказывает, что и в этом отношении мысль поэта возмужала и образовалась, так что уже не нуждается во многих схоластических отвлеченностях, к которым прибегала прежде.
Третий разряд выброшенных стихотворений составляют те, в которых был слишком ясно слышен напев с чужого голоса и слишком ощутителен был недостаток собственной мысли и чувства. Сюда относятся все стихотворения, в которых говорилось о морях, кораблях, мраморах, муках художника и т. п.
Мы нарочно обратили внимание на множество стихотворений, исключенных г. Никитиным из второго издания: по нашему мнению, это доказывает, что он способен сознавать ложь и недостаточность своих произведений и отрекаться от того направления, которое могло породить их. Видно, что он не принадлежит к числу таких поэтов, которые, как, например, г. Фет, никак уж не могут, несмотря на всевозможные усилия критики, перейти ту грань, на которую раз стали в своих произведениях. Видно, что талант г. Никитина как будто еще не совсем определил себя, не нашел своей настоящей дороги, но очень ревностно старается найти ее. Кропотливая обработка и переделка прежних пьес доказывает его заботу о совершенствовании своего стиха; уничтожение многих стихотворений свидетельствует о стараниях его избавиться от тех направлений, под влиянием которых они были писаны; наконец, новые его стихотворения указывают на новые стремления и чувства, волнующие поэта и видоизменяющие содержание и тон его произведений. Странно, конечно, такое постоянное колебание в таланте поэта, который пишет стихи уже по крайней мере лет двенадцать (самые ранние стихотворения в первом издании помечены 1849-м годом); но нельзя не признаться, что развитие человека трудно ограничить определенным годом. История литературы представляет нам довольно много примеров писателей, которые только в очень уже зрелых годах попадали на свой настоящий путь и у которых окончательное развитие таланта совершалось очень поздно. У нас, и особенно в положении г. Никитина, подобное явление должно быть даже считаемо совершенно нормальным. Грамотейство, писательство у нас дело далеко не всем и каждому доступное; оттого у нас в обществе, особенно провинциальном, нередко какой-нибудь господин считается литератором за то, что описал красноречиво какую-нибудь торжественную процессию, приезд высокой особы или бал в дворянском собрании. А если еще человек пишет стихами – тут и говорить нечего: поэт, да и только… Не мудрено, что такая малая требовательность общества, соединенная с чрезвычайно ничтожною начитанностью, отражается и на воззрениях пишущих людей на самих себя. Они тоже привыкают считать чем-то важным всякий свой фельетон или стихотворение, тоже начинают смотреть, как на свою исключительную собственность, на мысли, давно известные, давно прекрасно высказанные другими и сделавшиеся, наконец, достоянием всего образованного общества. Таким образом, с ослаблением внутренней требовательности и строгости суда над собою, естественно замедляется и даже останавливается живое развитие писателя, и остается только сторона формальная, – слог, стих, диалектическое развитие мысли… Многие только этим и довольствуются и всю жизнь стоят на звучных фразах и общих местах, и все-таки считаются литераторами и поэтами. Нередко они даже печатают свои бессознательные подражания чужим впечатлениям и бесцветные, но звучные пересказы чужих мыслей и стремлений; нередко и временный успех венчает их, даже среди людей, причастных литературе, но имеющих слишком много добродушия и слишком короткую память… В таком положении был и г. Никитин при первом своем появлении; но он, как мы видели, не остался в ослеплении насчет значения своих подражательных опытов, уничтожил их, и теперь мы видим в его новых стихотворениях – хотя все еще большею частию не свое, а заимствованное содержание, но уже гораздо более им усвоенное и переработанное, нежели как было прежде. В прежних его стихотворениях можно было много насчитать таких, которые составляют просто вариации на такое-то стихотворение известного поэта. В нынешнем издании таких пьес гораздо меньше, подражательность не так ярко выражается в самом строе стиха, а состоит более в заимствовании основной мысли и тех или других отдельных черт для обрисовки предмета. Все-таки эта подражательность еще очень сильна, и по крайней мере половину из напечатанных ныне стихотворений г. Никитина надо бы выкинуть. Например, пьеса «Поэту», как она ни переделана г. Никитиным в новом издании, все-таки осталась подражанием стихотворению Полонского: «О, подними свое чело»; стихотворение «Дитяти» взято из «Младенца» Огарева и такой же пьесы Кольцова; «Похороны» напоминают тоже пьесу Огарева:
Когда встречаются со мной
Под парчевою пеленой
И с упряжью печальной дроги…{8} – и пр.
Кроме таких цельных подражаний, есть отрывочные, мозаические, так сказать, заимствования из других поэтов, преимущественно в пьесах описательного свойства. Например, г. Никитин пишет:
В темной чаще замолк соловей,
Покатилась звезда в синеве.
Месяц смотрит сквозь сетку ветвей,
Зажигает росу на траве.
Дремлют розы. Прохлада плывет.
Кто-то свистнул… Вот замер и свист.
Ухо слышит, едва упадет
Насекомым подточенный лист.
Как при месяце кроток и тих
У тебя милый очерк лица!
Эту ночь, полный грез золотых,
Я б продлил без конца, без конца.
Это стихотворение даже недурно, и мы не можем указать отдельной пьесы, которой бы оно составляло прямое подражание. Но тем не менее, если вы знакомы с нашими поэтами, то, читая это стихотворение, вы чувствуете, что здесь излагаются не столько личные впечатления г. Никитина от этой ночи, сколько воспоминания его о том, что он читал подходящего к предмету его описания. И прокатившаяся звезда, и месяц, зажигающий росу на траве, и плывущая прохлада, и дремлющие розы, и проч. – все это вам знакомо, все это вы читали у Фета и Тютчева, и, всматриваясь в физиономию стихотворения, вы замечаете, что оно есть не что иное, как извлечение из фетовских «Вечеров и ночей». Таких мозаически составленных пьес не мало у г. Никитина, и они попадаются, к сожалению, не только в описательном роде, в котором он вообще не силен, но и в стихотворениях субъективного характера, наиболее требующих самостоятельности и своеобразности. Есть у г. Никитина с десяток небольших стихотворений, в которых выражается тоска души, измученной пошлыми и грязными явлениями жизни, совершенно противными чистым и благородным стремлениям поэта. Тема эта так обширна, что в ней может превосходно отразиться и личность поэта со всеми его понятиями и желаниями, и жизнь, окружающая его и производящая в нем те или другие впечатления. Между тем и в этой сфере г. Никитин выказывает очень мало самобытности: о явлениях, очевидно близких и знакомых ему, он большею частию говорит не своим голосом, как будто прячет то, что ему лично дорого, и говорит лишь о том, что у других уж было говорено, что получило право гражданства в нашей поэзии. Оттого в самых, по-видимому, задушевных его пьесах мы слышим не вопль души, а рассказ человека, рефлектирующего о своих страданиях и старающегося рассказать о них приличным тоном и хорошим слогом, – как принято говорить в порядочном обществе. Прочтите, например, хоть следующее стихотворение:
Еще один потухший день
Я равнодушно провожаю
И молчаливой ночи тень,
Как гостя скучного, встречаю.
Увы! не принесет мне сна
Ее немая тишина.
Весь день душа болела тайно
И за себя и за других…
От пошлых встреч, от сплетен злых,
От жизни грязной и печальной
Пора покой бы ей узнать;
Да где он? Где его искать?
Едва на землю утро взглянет,
Едва взойдет ночная тень, —
Опять тяжелый, грустный день,
Однообразный день настанет.
Опять начнется боль души,
На злые пытки осужденной,
Опять наплачешься в тиши,
Измученный и оскорбленный.
В этом стихотворении, как и в большей части других того же рода, слышны звуки Огарева, И. Аксакова, даже Полонского и пр., но не слышно внутренней жизни самого поэта. Мы видим, что ум и чувство его – в разладе с той обстановкой, в которую поставлен он судьбой; но этот разлад есть общее место, и, говоря о нем отвлеченно, можно высказать много умных вещей, но нельзя написать поэтического, живого произведения. Это мы видели даже на людях, гораздо далее, чем г. Никитин, ушедших в теоретических умствованиях и гораздо крепче его владевших отвлеченною логикою: они писали стихи чрезвычайно благородные, смелые, энергические, даже искренние, но поэзии все-таки было в них очень мало. Оттого и значение этих стихотворений очень слабо, и при мысли о горе, труде, нищете и всей житейской нескладице гораздо скорее вспоминается вам стих Кольцова или другого поэта, нежели Огарев или Аксаков. Тем слабее, разумеется, должны быть стихотворения г. Никитина, составляющие подражание этим отвлеченностям.