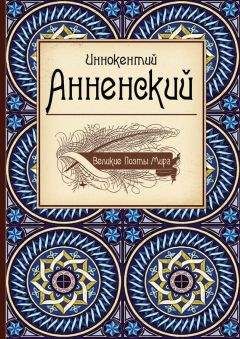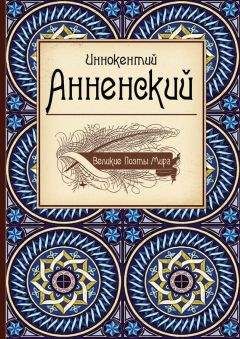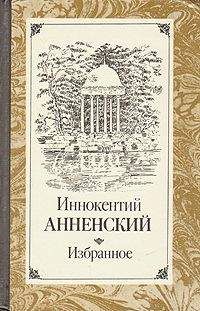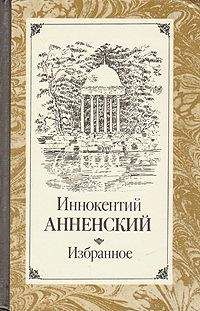Иннокентий Анненский - Трагедия Ипполита и Федры
Со своеобразным изяществом Еврипид придал обеим философский колорит и тонкие очертания. Душевная борьба Гамлета вышла, конечно, именно из таких сцен «двоения», чтобы в наши дни перейти снова в форму драматических галлюцинаций на страницах психологического романа.
Кормилица, которая по своим действиям является лишь хитрой и трусливой рабыней, говорит умно и даже тонко, где надо, разоблачая, где надо, маскируя: она читала поэтов, не чужда метафизики и искусно владеет иронией. Какой горькой насмешкой звучат, например, ее слова:
«Я искала лекарства от твоего недуга, но нашла не то, чего хотела: между тем, удайся мне дело, и я бы была теперь умною из умных» (ст. 698–700). В чувстве кормилицы к Федре мы различаем черты двух совершенно различных категорий. С одной стороны, в ней есть личный, реальный характер, с другой — чисто символический: с одной стороны, это самая близкая к Федре женщина, которая любит в царице свое молоко, свои бессонные ночи и свою молодость; с другой — это злейший враг Федры, ее антипод, ее отрицание, одна часть души, которая насмерть борется с другою. Если вы проследите сцену шаг за шагом, то убедитесь, что кормилица не только ищет угодить госпоже, но и взять над ней верх, что она старается усыпить ее бдительность и иногда ласкает в ней не столько больного ребенка, сколько жертву; когда старуха окончательно оставляет сцену, в ней говорит торжествующее сознание женского бессилия, наказанного за высокомерие и дерзость.
Если рядом с Мефистофелем, лишенным индивидуальности, Гете нарисовал Фауста уже в личных контурах, то нас не должно удивлять, что и Еврипид рядом с кормилицей, символом общим, вывел на сцену Федру — характер и индивидуальность. Только личные черты, конечно, не исчерпывают Федру. В Федре не раз слышится отзвук личной жизни самого поэта, его исканий и болезненного душевного разлада. Когда, например, царица (ст. 375–380) говорит, что она уже давно проводит бессонные ночи над вопросом о причине порчи человеческой жизни, и когда потом, точно полемизируя с Сократом,[18] она утверждает, что знать доброе (ta crhsta) еще не значит его творить, то из-под розовой маски женщины на нас глядит задумчивый образ Еврипида, столь чуждого сердцем всему, в чем нет трепета идеальной мысли; но нам назойливо вспоминается и тот трагичнейший из поэтов[19] мира, который с болью сознавал все бессилие философского ума над несчастьями и язвами жизни.
Федра является на сцену, уже пережив первое похмелье страсти. Киприда уже измучила ее мечтой и желаньем, истомила борьбой и тайной.
Как волны горячего пара, из губ ее вырываются страстные желания, и она с безнадежностью следит воспаленными глазами, как тают в воздухе причудливые облака мечты, чтобы осесть на сердце холодной росой невозможности. Кажется с первого взгляда, что этот мир любовных желаний целиком принадлежит Федре. Царице грезится, что она Артемида и что она или мчится около Ипполита, то увлекаясь бешеной погоней за ланью, то вся обрызганная взметами соленой волны, или отдыхает с ним под тополями (Федра не называет Ипполита, но мечта ее витает только там, где она могла бы быть вместе с ним); та жаркая страсть, которая горит в Федре последним бешеным пылом, поэтически преобразуется в настоящую жажду и родит назойливый образ холодной струи потока. Но вдумайтесь в содержание бреда Федры, вы и здесь различите за ней поэта, который одухотворяет страдающий образ своей героини болью собственных, часто безнадежных попыток воплотить мечту и говорить голосом чужого сердца.
II
Афродита любит чистые жертвы. Это старое верование сделало из Федры и Ипполита героев настоящей трагедии. Оставим пока в стороне Ипполита. Что такое его мачеха? Федра не только не чувственная и не истерическая женщина, в которой стихийная сила Киприды могла бы проявиться всего типичнее, наоборот, это натура рассудочная и болезненно-стыдливая. Страдания Федры принимают все формы, проходят все фазисы стыда, от первой, еще гордой и незаметной для глаза борьбы со вспыхнувшим желанием, до судорожных движений руки, которая вяжет петлю. Но на сцене всего сильнее чувство стыда проявляется в Федре, когда после яркой полосы бреда к ней мучительно возвращается сознание (ст. 239 сл.). Царица просит кормилицу покрыть ей голову. Вспомните, что этот характерный признак стыдливости Еврипид с такою смелостью придал немного позже и своему Гераклу.[20] Любовь для Федры только рана (erwV etrwsen,[21] ст. 392). Молчанием и тайной она хотела бы скрыть этот недуг (ст. 394). Помимо острых мгновений бреда, она ни на минуту не пленяется романтической окраской любви и безмерно далека от того, чтобы эта daimonoV ath[22] казалась ей чем-нибудь, кроме несчастия и безумия. Федре еще ни разу не снился хамелеон кокетства, и ее молчаливой страсти не суждено было разрядиться ни словом участия, ни той успокоительной и сладостной игрой чувства, которая для ее гордой стыдливости была бы только мерзостью греха, ни нежащей лаской мечты и молчаливого разговора, ни даже прихотливой идеализацией и обожанием любимого существа. Редкие минуты любовного и то загадочного бреда, а потом во все остальное время ничего, кроме перешейка, который становится с каждой минутой все уже и уже между двумя безднами: розовой, но огненной бездной страшного и даже несладкого порока, и черной бездной смерти. Федра даже не любит Ипполита тем сложным чувством, где инстинкт, как у нас, подвергся этической переработке. Ипполит для нее — человек, которого она страстно желает, но в то же время это естественный враг ее детей и сын ее соперницы, и даже в разгаре страсти Федра не может подумать о том, что станется с ее детьми, если Ипполит, в случае ее смерти, заступит для них место Фесея. Как ее грех и как невольный союзник Киприды, Ипполит для нее ужасен, она его ненавидит, и чувство, которое должно разрешиться злобной клеветой, назревает, может быть, долее, чем самая любовь. Но Киприда выбрала Федру не только как заманчивую задачу для своей сложной борьбы с человеческой стыдливостью; в жене Фесея есть еще одна черта, которая останавливает внимание матери Эрота, и именно как артистки: это порочная предестинация Федры.
Когда кормилица почти довела Федру до ее первого страшного признания, у царицы вырываются болезненные восклицания о порочной и трагической — эти понятия теперь сливаются для нее — любви, обнимавшей сначала ее мать, Пасифаю, а потом Ариадну, ее сестру, и она выстанывает с болью:
Я третья, и злосчастно гибну…
Но вот тайна вымотана. Федре незачем более закрываться; зато стыдливость, которая страдала так сильно под влиянием сознанного бреда, получает новую и неожиданную защиту в гордости оскорбляемой женщины: сначала кормилица, потом хор поднимают вопль на ее полупризнания:
Ты погибла, — ты открыла солнцу свою беду.
Вся мораль гинекея в этой строке, в нее уместилась вся этика женщин, живущих растительной формой души: для этой морали тайна, ночь и сделка прикрывают такое нравственное безразличие, такую простоту падения, столько веселой и подрумяненной жестокости и бесстыдства, что нам становится страшно за человека, который принадлежит гинекею хотя бы малозначительной частью своей души. А ведь бедная Федра тоже выросла в гинекее, и я, кажется, вижу, как она бледно улыбается, когда ей удалось не назвать самой, а лишь выслушать имя Ипполита. Это имя сорвалось с губ у кормилицы, и внезапно опамятовавшаяся старуха расплачивается ужасом за свое невольное преступление против кодекса гинекея. И пока женщины обмениваются криками ужаса, Федра мало-помалу приходит в себя, чтобы затем с мрачным спокойствием начать свой превосходный монолог. Да, стыд не у всех людей одинаков: есть даже два стыда, совершенно различных, только, к несчастью, для людей эти два стыда заходят один в другой и потому в небрежной речи носят одинаковое имя.
Первый стыд — это стыд гинекея, тот самый, наружный, подленький стыд, которому только что заплатили дань все эти темные души своим ужасом перед разоблаченным чувством, второй — это стыд, который боится порока, т. е. гнева всевидящих богов.
«Я знаю, — говорит Федра, — чем различаются два стыда, и с той минуты, как я это узнала, мне уже никаким ядом не вытравить разделяющей их грани и не вернуться к прежнему безразличию» (ст. 388–390). Затем Федра говорит о трех фазисах борьбы своей с любовным недугом. Первый, увы! уже показал свое бессилие: это была тайна, молчание, но не то лицемерно-трусливое молчание гинекея, за которым таятся и сплетни, и козни, и порок, а молчание, как терпеливо и гордо переносимая боль, о которой окружающие могут даже не догадываться. Второй фазис был попыткой образумиться, призвав на помощь свою скромность, свое женское достоинство (to swjronein,[23] ст. 399), но эта попытка оказалась не более практичною. Тогда остается третье и единственное средство — nam mors sola sanabit.[24] И вот сквозь зловеиДе сдержанный тон рассуждения у Федры прорывается злоба, сначала холодная, потом страстная.