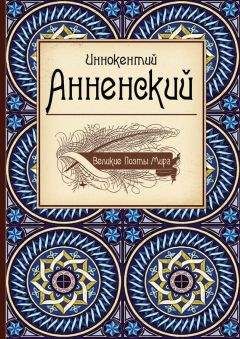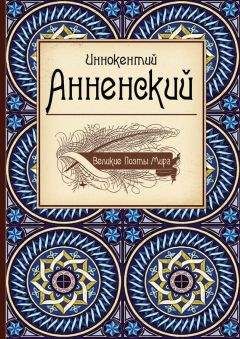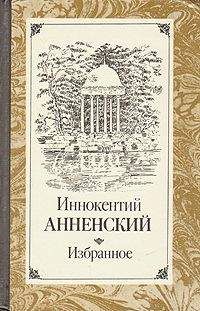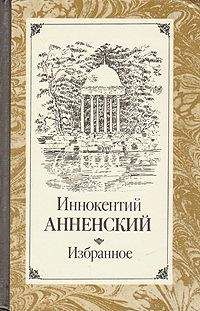Иннокентий Анненский - Трагедия Ипполита и Федры
Вспомните у него молчаливую игру Ифигении-жрицы[31] в сцене признания (788–802) или сцену его Фесея с Гераклом, когда убийца, опомнившийся в ужасе, плащом завесил себе лицо.
За четверть часа своего молчания Федра, которая перед тем всего на одну минуту из несчастной стала грешной, обращается в злобную преступницу, по крайней мере для миллионов, для толпы.
Из конца разговора между Ипполитом и кормилицей Федра поняла, что кормилица грубо открыла Ипполиту ту тайну, которую она сама не смела сказать себе даже во сне. И вот гнев Ипполита чередуется только с его глубоким презрением, а Федра во все время, как обмена фраз, так и монолога, чувствует, что Ипполит, только не желая наносить отцу нового оскорбления, делает вид, будто ее не замечает, но что на самом деле все его злобные и горькие тирады не только вдохновлены ею, Федрою, но прямо против нее направлены, а местами будто рассчитаны даже на то, что она их слышит.
Злая дерзость нападок Ипполита соединяет в себе весь лиризм непосредственного обличения с торжествующей свободой заглазной критики. Если в речи Федры нам чувствовалось тоже местами прикрытое обличение гинекея перед его представительницами и даже не без намеков на его гения кормилицу, то по лирической силе между двумя монологами не может быть, конечно, никакого сравнения. Речь Федры подготовлялась целым рядом бессонных ночей и мучительных дней, она дышит холодным отчаянием, тоской, в которой остался только отзвук страсти. Но совершенно не таков монолог Ипполита.
Он начинается прямо с задорного, чисто юношеского парадокса (я забываю на эту минуту о признаниях самого Еврипида): «Отчего только людям не дано покупать себе за золото из храмов детей и для столь важной задачи создана богами такая лживая и вредная разновидность человека, как женщина».[32] А далее все, что говорит царевич, как бы ни согласовались слова его с сущностью его воззрений и самой природой сына осиленной амазонки, — все вызвано моментом, все почти с силой выкинуто со дна взбудораженной души и мечется в беспорядке, срываясь с побелевших от гнева губ.
Если еще в первой части речи (до 650) есть хоть обличье философичности, и злоба карает умниц вообще (sojhn…misv (ст. 640 — ненавижу этих умниц!), которым Ипполит — он, орфик, мудрец — предпочитает «бесполезную тупицу» (ст. 638 сл.), то во второй — Ипполит доходит до брани (v cacon cara[33] — ст. 651), до открытого упрека старухи в сводничестве (ст. 652) и кончает речь провозглашением прав мисогина на безудержную речь. «Я никогда не смогу дойти, — говорит он, — до пресыщения в ненависти женщин, и я не хочу класть предела моему злоречию» (ст. 664 сл.).
Я оставлю пока в стороне трагедию самого Ипполита. Вдумайтесь, что должно было особенно больно подействовать на Федру в этом страстном обличении женщин, поскольку все они похожи на нее, Федру. Во всяком случае не угрозы, потому что Федра не рабыня, чтобы пугаться чьего-либо гнева или расплаты за свои поступки, не смелость суждений Ипполита и не его ирония, потому что в страстной и агрессивной форме он повторил лишь мысли, которые мог бы услышать из ее уст какие-нибудь полчаса тому назад. Я думаю, что всего больнее звучало в ней от речи Ипполита сознание, что она, Федра, уже не смеет сказать того, что говорила, осуждая себя на славную смерть. Вот что было ей больно, а ужаснул ее тот черный камень клеветы, который уже попробовала швырнуть рука Ипполита в ее мавзолей. Как Макбет, когда на него двинулся и Бирнамский лес,[34] Федра пережила за четверть часа Ипполитовых сарказмов свой пятый акт; только она пережила его не с мечом в руке, как Кавдорский тан, а молча, со скрещенными на груди руками и с целой бурей в сердце, для выхода которой оставались только одни горящие глаза.
Но зато руке Ипполита не удастся швырнуть в ее труп черного камня клеветы: нет, она вооружит свою окоченелую грудь заколдованным неотразимым оружием; против гордости аскета она выставит злобу самца, и Фесей, который осилил Амазонку, конечно, сумеет заткнуть рот и ее отродью. Ипполит смешал Федру с ее рабыней, Федра стравит его с отцом. Когда Ипполит покидает сцену, Федра начинает говорить, сначала даже в лирической форме, тревожными дохмиями. Характерны при этом ее выражения:
tecnas nun tinas (et) ecomen h logouV,
sjaletsai kaJammaluen.[35]
Они дышат ареной борьбы, палестрой; в мозгу Федры, готовой бороться, невольно возникает образ опрокинутого борца, которого железным кольцом сжимает объятие противника. Несмотря на обрядовый характер ее жалобы, где бледной чередой сменяется боги и смертные, земля и солнце, видно, что теперь царица уже не вдастся так легко. Накипевшая злоба прежде всего, конечно, обрушивается на кормилицу; старуха не остается в долгу, и ее язвительный намек на то, что вина ее заключается лишь в безуспешности ее попытки, подливает новую каплю яда в чашу Федры. Но вот старуха, плача, уходит, и тогда, связав подруг клятвой молчания, Федра произносит на сцене свои последние слова (ст. 724 сл.). Когда хор прервал ее было словом «Молчи», Федра в свою очередь не дает женщинам продолжать. «Если хочешь давать мне советы, — говорит она, — пусть эти советы будут честны», т. е. не смей говорить мне теперь о благоразумии, о жизни и всеисцеляющем времени; ты должна, напротив, поддержать во мне решимость умереть. Царица заключает слова свои угрозой, которая составляет изящный контраст к божественной угрозе пролога.
«Удалившись из жизни, — говорит Федра, — я еще до заката насыщу Киприду, которая давно уже меня изводит. Пусть паду я жертвой неуслажденной любви. Но в моей смерти я явлюсь злом для другого человека» пусть он позабудет надмеваться моей бедой и, разделив со мною недуг «научится быть истинно скромным».[36] Странные, тяжелые, не столько злые, сколько таинственные слова! Что в них слышится? Одна ли угроза и злоба или где-то там, глубже, задавлено и рвется наружу голубое пламя Эрота? «Разделить недуг» — не выразили ль эти слова все еще живущее в Федре желание «разделить ложе» Ипполита? Разве Эрот не может ужалить и Эриннию? Если вы внимательно прочитали трагедию и вдумались в быстро прошедший перед нами, но богатый содержанием трагический день Федры, скажите мне теперь, могла ли Федра не написать своей клеветы, мало того, не должна ли была она ее написать?
Я оставлю даже в стороне и парресию[37] детей, и репутацию Фесея, словом, всю этику эпохи; но дальнейший ход трагедии, не оправдал ли он Федру? Нет ли самой строгой гармонии, самой точной параллели между судом Ипполита над Федрой и судом Фесея над Ипполитом, и не получил ли Ипполит лишь «меру за меру»? Начал ли он, этот строгий судья, с того, с чего должен был начать, т. е. прогнал ли он кормилицу, сказав ей, что она лжет? Нет. Попробовал ли он расследовать самое дело? Нет. Не смешал ли он в одну кучу всех женщин с таким же основанием, как позже его отец связал в один узел и орфизм и философию, и пост и разврат? Не сковал ли он Федре уста, так же точно, как позже и ему сковала их клятва? Он, и только он, Ипполит, поставил борьбу на ту почву, на которой ему же погибнуть.
Неразборчиво, страстно и высокомерно он целой половине человечества отказал в воздухе, солнце и даже разуме. Чего же смел он ожидать от этой половины? Он сам противопоставил всех мужчин всем женщинам, что же мудреного, что его сбил тот самый грубый кулак союзника-мужчины, который он объявил законнее и выше разума в женской голове. И кто же наказал Ипполита? Его наказал отъявленный мисогин[38] — Еврипид. О, ирония непонимания, которая две с половиной тысячи лет любуется собою!
Нравственная ответственность действующих лиц трагедии есть, в сущности, только художественная фикция. Она — не более, как отблеск нравственных требований читателей. Как живопись говорит красками, так трагедия говорит обидами и страданиями, и если вы художественно пережили трагедию Федры, то не можете не согласиться со мною, что казнь Ипполита, в сущности, есть лишь возмездие за ту клевету, которою он преждевременно оскорбил Федру и с ней целую половину человеческого рода.
Итак, может ли наше нравственное чувство осудить месть Федры, если оно требует ее последствий?
III
Трагедия Ипполита сменяет на сцене трагедию его жертвы; я говорю его жертвы, потому что мертвая Федра должна была вынести от людей, благодаря Ипполиту, едва ли не более нареканий, чем живая, зачем она оклеветала юношу.
Ее ярко злая ложь, как matre pulchra filia pulchrior,[39] заставляла зрителей забыть о той клевете, которая ее вскормила. Ипполит не был виновен в смерти Федры, но он был виновен в ее позоре, который перешел в нашу эру, конечно, еще более ярким, чем он казался эллинам.
Предсмертная угроза Федры служит как бы прологом к трагедии Ипполита. Со смертью царицы начинается та часть пьесы Еврипида которая требует менее внимательного изучения, потому что, если исключить из нее две легко постигаемых условности — обещание Посидона и Артемиды в исходе,[40] то получится драма, весьма близкая к современным. Фесеи могли существовать во все века, слабо видоизменяясь, а сарказмы, которые оскорбленный отец расточает своему оригиналу-сыну, по рою отливаются для нас в давно знакомую форму огульного осуждение «молодых людей», то в качестве «фармазонов и карбонариев», то в виде «нигилистов» или еще страшнее и современнее.