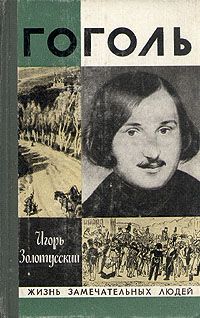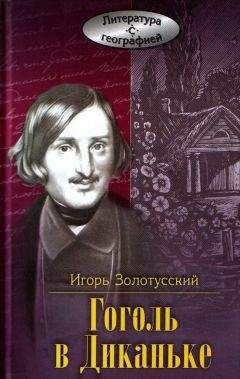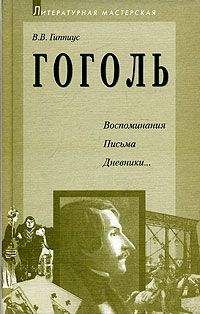Игорь Золотусский - Поэзия прозы
Мечта и жизнь соперничают на весах судьбы, меняются, местами: то жизнь переодевается в мечту, то мечта сбрасывает свой яркий плащ к ногам жизни. И всякий раз эти метаморфозы вызывают улыбку Гоголя — то грустную, то язвительно-разочарованную, то вновь поднимающую человека из праха.
Смех Гоголя способен разъять, разложить предмет или даже лицо, как делает он это с лицом майора Ковалева, но он не патологоанатом: и нос Ковалева возвращается на свое место, и рассыпавшийся на куски мир соединяется вновь, и распавшаяся; кажется, на части жизнь опять смотрится как целое.
Струна может замереть, замолчать, но она струна — тронь ее только, прикоснись к ней с любовью, и она отзовется, она вспомнит хранящийся в ее натянутой жиле звук.
Смех светел — сказал Гоголь в «Театральном разъезде», навсегда отведя подозрения в том, что его смех — темен.
У каждого человека есть окно матери — окно детства, пусть это даже занесенное снегом мутное окно, как у Чичикова. Но и Чичиков способен вспомнить о нем, вернуться к нему мыслями и душой и тем же «слабым криком души» возопить: «Брат, спаси!» Есть люди гибнущие, но нет людей погибших, считает Гоголь. Светлый смех его должен помочь им встать, восстать, оглянуться, вернуться.
«Ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке», — провозгласил в своих статьях Гоголь. Он писал о «гордости чистотой своей», о «гордости ума», о распрях ума, которые грозят девятнадцатому веку еще большим раздроблением. Он предупреждал его о том, о чем в полный голос заговорили потом Достоевский и Толстой.
Выход за пределы круга искусства не сломил Гоголя. Уединившись в доме на Никитском бульваре, он вновь взялся за свое художество. Он выстаивал перед своей конторкой (писал он стоя) каждое утро, и погибший, казалось бы, для читателя второй том поэмы стал выстраиваться заново, обрастая колоннами, этажами, готовясь быть подведенным под крышу. Он строил не просто дом, а «прекрасный храм» на русской почве, в последний раз решив бросить вызов «действительности» — вызов от имени «мечты».
Все годы жизни Гоголя — это уроки труда. Когда я пишу, я живу, говорил он, если я перестану писать, я умру. «Мне нет дела до того, — писал он в 1847 году А. А. Иванову (тоже прикованному кандалами к своей картине), — кончу ли я свою картину или смерть меня застанет на самом труде; я должен до последней минуты своей работать… Если бы моя картина погибла или сгорела перед моими глазами, я должен быть также покоен, как если бы она существовала, потому что я не зевал, я трудился…» Переписывание по восьми раз — хрестоматийные сведения о Гоголе. Перемарыванье страниц и глав, сожжение целых частей — тоже факты известные. Этот самосуд жесток, но он самосуд человека, который способен не только восстановить написанное, но и построить все заново — да так, что ничто не будет знакомо искушенному взору, что поистине новым представится ему то, что уже, кажется, он знал наизусть, к чему привык, на что насмотрелся.
Так было с С. Т. Аксаковым, когда Гоголь читал ему обновленные главы второго тома «Мертвых душ», — старик ахнул, покаялся, что имел грех усомниться в гении Гоголя.
Гоголь любил повторять, что в храм искусства нельзя входить неопрятно одетым. И он входил под его своды с чистой душой и чистыми листами отделанных до белизны беловиков, к которым никто, и в том числе он сам, уже не мог приложить руку. А если и случалось, что в молодости он спешил, торопился выдать в свет необработанное (как было с «Арабесками» и «Тарасом Бульбой»), то потом садился и переписывал от строки до строки, пока глаз, ухо и сердце не провозглашали хором: конец. Так было и с «Бульбою», и с «Ревизором». «Ревизор», в сущности, писался шесть лет, хотя сначала был выдан «единым духом», «Портрет» и того более, второй том поэмы до рокового сожжения уже побывал в огне. Оттого и создания Гоголя — истинные создания, строения совершеннейшей архитектуры, напоминающие римскую незыблемую вечность. Вспомните сад Плюшкина — это и русский сад, сад средней полосы России, и как бы усыпленный в своем величии римский форум, с остатками его колонн, арок и вьющейся вокруг мрамора зеленью. А перечитайте «Копейкина» — эту поэму в поэме, чудо прямой речи у Гоголя, русского застольного рассказа, илиаду русского разбойника!
Что там «Копейкин» — Гоголь Державина по нескольку раз переписывал, хотя были у него в библиотеке все сочинения Державина, — набело переносил собственным почерком в свои тетради, чтоб только привыкло перо к его мерно текущей речи, к его величественным периодам, к грому и водопаду его «парящего» косноязычия. Переписывал и Пушкина, и Лермонтова, и Баратынского. И святых отцов церкви.
Учился. Тренировал руку и слух и напев подхватывал, призыв принимал, слал его дальше.
Оттого и поются его собственные строки, выпеваются из души, от души идя, к душе и приходят. И громозвучное слово порождает громозвучное эхо, проносясь через нас и над нашими головами.
Поклонимся за это Гоголю и примем уроки его с благодарностью.
1975–1985Смех Гоголя
Многое бы возмутило человека, быв представлено в наготе своей; но озаренное силою смеха, несет уже примирение в душу.
Гоголь20 марта 1809 года утро в Санкт-Петербурге было морозное, ясное. «По местам, — сообщали „Санкт-Петербургские Ведомости“, — тонкие облака», а в полдень «при тонких облаках слабое солнечное сияние».
Термометр показывал +1,6 по Реомюру.
В тот день император Наполеон катался с русским послом князем А. Б. Куракиным в коляске в Рамбуйе, а испанский король Фердинанд VII «пребывал в неизвестности».
Будущие комические персонажи Гоголя, упомянутые им лишь в нескольких строках его сочинений (Наполеон в «Мертвых душах», а испанский король в «Записках сумасшедшего»), не знали, что человек, который выведет их перед потомством в смешном виде, уже родился.
Он явился на свет накануне решающих для России событий. Вскоре Наполеон завоюет Австрию (Испания уже почти вся под его властью), а затем двинет свои полки на Москву. «Двунадесять язык» пройдут мимо родной Гоголю Миргородщины и так же, не тронув этих мест, уберутся обратно.
Гоголь-мальчик услышит об этом походе из уст матери и отца, а позже узнает от очевидцев и из книг. Но свет 1812 года — свет победы русского войска — навсегда озарит его душу.
Он вызовет к жизни и смех Гоголя.
Смех Гоголя такое же дитя свободы, дитя победы, как и стихи Пушкина. Оба они начинают в одну эпоху, и оба есть эхо этой эпохи.
Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?
Гоголь услышит этот призыв Пушкина в далеком Нежине и откликнется на него сначала стихами, а потом прозой, которая, по словам того же Пушкина, заставит русских смеяться так, как они не смеялись со времен Фонвизина.
История XIX столетия была бы неполна без смеха Гоголя. Но случилось так, что смех этот, который мы вправе назвать историческим (но не в том смысле, в каком употребил это слово Гоголь, говоря о Ноздреве: «Ноздрев был в некотором роде исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории»), оказался направлен на историю и на ее героев.
Признанные герои истории для Гоголя как бы и не герои — он возвеличивает малое и смеется над великим. Титулярные советники в его прозе теснят королей, а особам царской крови отводится третьестепенное место. Они сдвинуты на окраину, на периферию, как какой-нибудь алжирский дей (лицо, кстати сказать, вполне историческое) в «Записках сумасшедшего» или император Николай, о котором походя упоминает в «Ревизоре» Хлестаков. «У всякого петуха есть Испания», — говорит гоголевский сумасшедший, став испанским королем, и эта параллель петух — король отдает иронией.
Смех Гоголя ставит все с ног на голову, он из ничтожного лепит крупное, и оно — ввиду своей увеличенной мелкости — кажется еще более смешным. Достаточно автору сказать, что Поприщин, гуляя по Невскому проспекту, встретил проезжающего государя и не поклонился тому, как своему царственному собрату, — и сразу возникает ситуация, при которой величие государя просто ничто, черт знает что такое, как говорят герои Гоголя, а не величие.
«Значительное лицо» в «Шинели» выглядит вовсе не значительным, а мертвец-чиновник низкого роста, которого это лицо свело, по существу, в могилу, по мановению волшебства смеха Гоголя превращается в привидение, кулак которого становится таким, «какого и у живых не найдешь». Акакий Акакиевич заслоняет в этой повести и значительные лица, и тех, кто на фоне этих значительных лиц кажется еще более значительным.
Человек по фамилии Яичница имеет у Гоголя больше прав на существование — и на внимание со стороны автора, — чем какой-нибудь генерал, который по виду «умная голова», а на самом деле мечтает лишь о крестике на шею. Наполеоны и фердинанды у Гоголя смешны, а вот смерть Акакия Акакиевича, как и смерть двух старичков в повести «Старосветские помещики», оплакивается как национальная потеря.