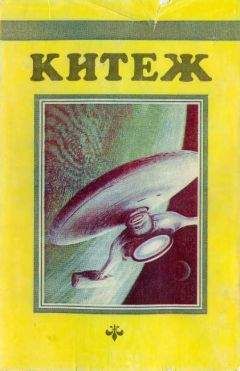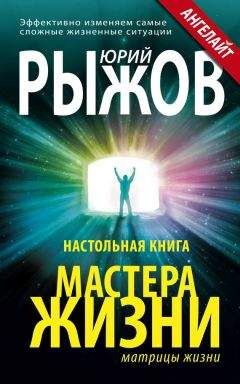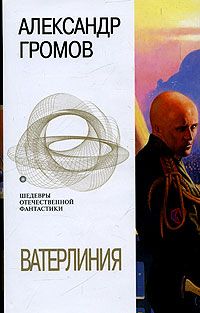Евгения Иванова - ЧиЖ. Чуковский и Жаботинский
От него первого я узнал о Роберте Броунинге, о Данте Габриеле Россетти, о великих итальянских поэтах. Вообще он был полон любви к европейской культуре, и мне порой казалось, что здесь главный интерес его жизни. Габриеле Д'Аннунцио, Гауптман, Ницше, Оскар Уайльд — книги на всех языках загромождали его маленький письменный стол. Тут же были сложены узкие полоски бумаги, на которых он писал свои замечательные фельетоны под заглавием „Вскользь“. Joseph В. Shlесhtman в первом томе своей замечательной книги на стр. 65–66 очень верно и метко характеризует эти фельетоны: „bubbling with exuberance of youth, with the irrepressible urge to proclaim truth, beauty and justice“[14].
Писал он эти фельетоны с величайшей легкостью, которая казалась мне чудом. Присядет к столу, взъерошит свои пышные волосы и ровным почерком, без остановки пишет строку за строкой. У меня была невеста — и мы часто бывали у Владимира Евгеньевича вдвоем, он относился к ней дружески и в свободное время играл со всеми нами в шарады. В изобретении шарад он был неистощим. Однажды, когда он задумал слова „Иоанн Кронштадтский“, мы никак не могли отгадать первый слог, оказалось, что это было еврейское слово йо (да), которое девушка говорит своему возлюбленному. Никаких других еврейских слов я от него не слыхал. Но с еврейской массой он встречался и тогда. Помню, как он, вместе с моей невестой и многими другими друзьями, принимал живое участие в раздаче угля (перед Пасхой) беднейшим евреям, жившим под землей в катакомбах. Никогда я не видал такой страшной бедности. С ним спускались в эти мрачные подземелья Гинзбург, Кармен[15] и я; мы раздавали беднейшим какие-то „квитки“ для получения угля, и Владимир Евгеньевич нередко присовокуплял к этим квиткам свои деньги.[16] Но я никогда не кончил бы воспоминания о нем. Мало что он вовлек меня в литературу, он уговорил редакцию „Одесских новостей“ послать меня корреспондентом в Лондон. Это было в 1903 году. Корреспондентом я оказался плохим — но здесь не вина Владимира Евгеньевича. Он почему-то верил в меня, и мне больно, что я не оправдал его доверия. В 1916 году я снова был в Лондоне. Жаботинский пришел ко мне в гостиницу, мы провели с ним вечер, он оставил в моем рукописном альманахе короткую дружескую запись[17] — и я долго бродил с ним по Лондону. Он живо интересовался литературой, расспрашивал меня об Ал. Толстом, о Леониде Андрееве, — но чувствовалось, что его волнует другое и что общих интересов у нас нет. Что с ним было дальше, я не знал, покуда не прочитал замечательную Story of his Life by Joseph В. Shlесhtman. Думаю, даже враги его должны признать, что все его поступки были бескорыстны, что он всегда был светел душой и что он был грандиозно талантлив. Как и всякий подлинный талант, он был скромен и держался со всеми нами на равной ноге — со мной, с Вознесенским (Бродским)[18], с Карменом и другим сотрудниками „Одесских новостей“».[19]
В период, когда писались эти мемуарные отрывки, в дневнике Чуковского появилось несколько записей, часть которых не вошла в первые публикации дневника. В опубликованной записи читаем:
5 апреля 1964. Влад. Жаботинский (впоследствии сионист) сказал обо мне в 1902 году:
Чуковский Корней,
Таланта хваленого,
В 2 раза длинней
Столба телефонного.[20]
В пропущенной записи находим несколько дополнительных подробностей:
15 авг. 1965. Я написал длиннейшее письмо в Иерусалим — воспоминанье о Жаботинском, который дважды был моей судьбой: 1) ввел меня в литературу и 2) устроил мою первую поездку в Англию.
30 авг. 1965. Был из Израиля еврей американец. Симпатичный человек. Он сообщил, что мое письмо к Рахиль Гальперин (так в тексте. — Е.И.) напечатано!! О Жаботинском. Теперь я послал ей еще одно письмо, а ему сдуру дал единственную копию.[21]
Но эти цитаты из писем к Марголиной более или менее известны теперь. Любопытно другое: Чуковский до этого, в 1958 году упомянул о роли Жаботинского в своей жизни, причем на страницах советских изданий, правда, не называя его имени. В 1958 году литератор Макс Поляновский принес ему юбилейный выпуск газеты «Одесские новости», где в иллюстрированном приложении от 25 декабря 1909 года были помещены портреты всех сотрудников газеты, и среди них — Жаботинского и Чуковского. Процитируем Макса Поляновского:
Старое юбилейное приложение я <…> как бы невзначай показал Корнею Ивановичу Чуковскому. С интересом, любопытством и волнением вглядывался он в портреты сотрудников, большинство которых знал и, конечно, помнил. «Вот этот, — писатель назвал фамилию бородача на снимке, — дал мне путевку в литературу. Напечатал первую мою статью в „Одесских новостях“»… Корней Иванович поцеловал лицо, изображенное на описке. «А этот был на моей свадьбе!» — воскликнул Чуковский.
По поводу многих, впоследствии ставших широко известными, Чуковский рассказывал такие устные новеллы, что его импровизации позавидовал бы даже мастер этого жанра Ираклий Андроников. В это время я сфотографировал Корнея Ивановича со старой газетой в руках.
Но вот на последней странице он увидел самого себя: молодого, черноволосого, темноусого. За минувшие полвека писатель совсем позабыл и о приложении, и о снимке, где он моложе на… пять десятилетий.
Чуковский попросил дать ему до вечера старую газету.
…Вечером мы застали его на веранде все с той же старой газетой. Корней Иванович выглядел грустным и необычно притихшим.
— Никого из них уже не осталось. Не с кем даже поделиться, — сказал он, протягивая чуть пожелтевшее приложение, где под своей фотографией сделал следующую надпись:
«Да, действительно, милый Поляновский, я был когда-то такой. К. Чуковский. 17 августа 1958».[22]
Мог ли кто-нибудь тогда предположить, что Чуковский целует портрет Жаботинского, для отвода глаз превращенного в «бородача». Остается только сожалеть, что сохранивший тайну этой встречи Поляновский не записал устных новелл, которые тогда рассказывал Корней Иванович. Единственным памятником этой встречи остался снимок Чуковского с газетой, взирающего на портрет Жаботинского.
Но вернемся к письмам к Марголиной. Основные вехи отношений Чуковского и Жаботинского обозначены в них очень верно, поражает точность даже в деталях — ведь писалось это спустя почти пятьдесят лет после последней встречи. Но Чуковского и Жаботинского связывали не только личные, но и литературные отношения, вот их-то мы и попытаемся восстановить, опираясь на тексты каждого из них, похороненные в периодике тех лет и обретающие новое звучание в контексте этих отношений.
О том, каким был тогда Жаботинский, написано его биографами и последователями немало. О своей юности Чуковский написал сам (повесть «Гимназия» (два издания) позднее получила заглавие «Серебряный герб», воспоминания о Борисе Житкове и др.). Но писалось все это в советское время, когда любая автобиография человека, успевшего хоть кем-то стать до революции, писалась не столько, чтобы что-нибудь рассказать о своей прежней жизни, сколько для того, чтобы скрыть «родимые пятна прошлого».
Прежде всего о том, когда состоялось первое знакомство наших героев. Уже после писем к Марголиной, 12 марта 1968 года Чуковский делает следующую запись в дневнике: «Сейчас вспомнил, что была в Одессе мадам Бухтеева (ее объявления можно найти в „Одесских новостях“). У нее было нечто вроде детского сада — и туда мама поместила меня, когда мне было лет 5–6. Там было еще 10–15 детей, не больше. Мы маршировали под музыку, рисовали картинки. Самым старшим среди нас был кучерявый, с негритянскими губами мальчишка, которого звали Володя Жаботинский. Вот когда я познакомился с будущим национальным героем Израиля — в 1888 или 1889 годах!!!»[23] Как установила Наталья Панасенко, детский сад Е. Бухтеевой в 1888–1989 годах находился по адресу Еврейская ул., 22 (здание не сохранилось).[24]
Самым тяжелым психологическим моментом биографии Чуковского являлось его происхождение: он был незаконнорожденным ребенком. Об обстоятельствах его появления на свет мы знаем очень мало, только недавно Наталья Панасенко опубликовала биографические сведения об отце Чуковского — Эммануиле Соломоновиче Левенсоне (1851-?), сыне одесского врача, потомственном почетном гражданине, в семье которого мать Чуковского — Корнейчукова Екатерина Осиповна (1856–1931) — жила в прислугах. Связь родителей была достаточно прочной, некоторое время их совместная жизнь продолжалась в Петербурге, где и появились на свет будущий критик Корней Чуковский[25] и его сестра Маруся, кстати, всю жизнь носившая отчество отца. Позднее, по настоянию семьи, Э. С. Левенсон женился на девушке своего круга, мы мало что знаем о его дальнейшей жизни, известно лишь, что его внуком от дочери Анны был известный математик Владимир Рохлин[26].