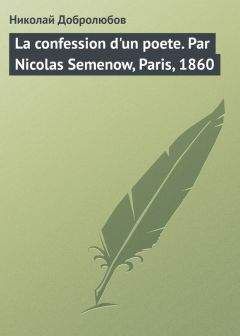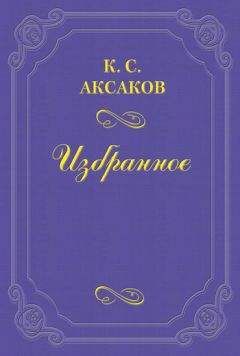Николай Добролюбов - Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым
Со времени Крылова, на всю Россию опозорившего надменных потомков славных римских гусей{41}, у нас нет надобности распространяться о том, что защита привилегий породы смешна и постыдна. Тем не менее часто слышатся выходки против какого-то демократического направления, противопоставляемого аристократии. По нашему мнению, все подобные выходки лишены всякого существенного смысла. Что за аристократы, что за демократы, что за различие пород в одном народе, в одном племени? Совестно обращаться за цитатой к нашему же писателю, излагавшему свои идеи за полтора века до нас; но как не вспомнить при этих выходках слова Кантемира:
Адам дворян не родил, но одному сыну
Жребий был копать сад, пасть другому скотину;
Ной в ковчеге с собою спас все себе равных,
Простых земледетелей, нравами лишь славных{42}.
Конечно, борьба аристократии с демократией составляет все содержание истории; но мы слишком бы плохо ее поняли, если бы вздумали ограничить ее одними генеалогическими интересами. В основании этой борьбы всегда скрывалось другое обстоятельство, гораздо более существенное, нежели отвлеченные теории о породе и о наследственном различии крови в людях благородных и неблагородных. Массы народные всегда чувствовали, хотя смутно и как бы инстинктивно, то, что находится теперь в сознании людей образованных и порядочных. В глазах истинно образованного человека нет аристократов и демократов, нет бояр и смердов, браминов и парий, а есть только люди трудящиеся и дармоеды. Уничтожение дармоедов и возвеличение труда – вот постоянная тенденция истории. По степени большего или меньшего уважения к труду и по уменью оценивать труд более или менее соответственно его истинной ценности – можно узнать степень цивилизации народа. Степень возможности и распространения дармоедства в народе может служить безошибочным указателем большей или меньшей недостаточности его цивилизации. С этой точки зрения, не генеалогические предания и не внешняя стройность государственной организации должны занимать историка народной образованности. Гораздо более заслуживают его внимания, с одной стороны, – права рабочих классов, а с другой – дармоедство во всех его видах, – в печальном ли табу океанийских дикарей, в индийском ли браминстве, в персидском ли сатрапстве, римском патрицианстве, средневековой десятине и феодализме; или в современных откупах, взяточничестве, казнокрадстве, прихлебательстве, служебном бездельничестве, крепостном праве, денежных браках, дамах-камелиях и других подобных явлениях, которых еще не касалась даже сатира. При рассмотрении всего этого выкажутся и степень распространения знаний в народе и степень его нравственной силы. Нигде дармоедство не исчезло, но оно постепенно везде уменьшается с развитием образованности. Труд считается презренным у народов невежественных, у которых грабеж служит более почетным средством приобретения, нежели работа. Труд не получил надлежащего значения во всем древнем мире, дошедшем только до того, чтобы признать некоторые труды приличными лучшим классам общества, а все остальное предоставить рабам. Сам Платон, сочиняя свою республику, признал в ней необходимым рабское сословие, которое бы занималось физическими работами, чтобы доставить все нужное высшим сословиям – правительственному и воинскому. В средних веках, – не говоря о феодализме, – лучшими людьми провозглашены были artes liberales [10], то есть только умственные занятия признаны приличными свободным людям; на остальные работы смотрели с презрением. В новой истории совершилось признание всякого труда. Но до сих пор ни одна страна еще не достигла до уменья правильно оценивать труд вполне соответственно его полезности. Часто пользуются почетом занятия вовсе непроизводительные и пренебрегаются труды в высшей степени полезные. Дармоедство теперь прячется, правда, под покровом капитала и разных коммерческих предприятий, но тем не менее оно существует везде, эксплуатируя и придавливая бедных тружеников, которых труд не оценяется с достаточной справедливостью. Ясно, что все это происходит именно оттого, что количество знаний, распространенных в массах, еще слишком ничтожно, чтобы сообщить им правильное понятие о сравнительном достоинстве предметов и о различных отношениях между ними. Оттого-то, отвергши и заклеймивши грабеж под его собственным именем, новые народы все-таки не могут еще распознать того же самого грабежа, когда он скрывается дармоедами под различными вымышленными именами. Правда, теперь самые размеры грабежа уже не те, что были прежде; современные Лукуллы и Вителлий{43} ничего не значат в сравнении с древними. Но все-таки существуют маленькие Лукуллики, и нет сомнения, что они эксплуатируют много народа. Роскошь, с этой точки зрения, составляет действительно одно из главных проявлений общественной безнравственности, но только вовсе не потому, что она разнеживает, расслабляет человека, отводит его мысли от возвышенных идей к материальным наслаждениям и т. п. Вовсе нет, – она есть признак социальной безнравственности потому, что указывает на то печальное положение общества, при котором кровь и пот многих тружеников должны тратиться для содержания одного дармоеда.
Смотря на дело таким образом, мы удивляемся, как может г. Жеребцов смотреть с пренебрежением на промышленные успехи России со времен Петра и как может он восхищаться великолепием и обилием досуга у древних бояр московских!
Впрочем, пора уже и расстаться нам с г. Жеребцовым. Читатели из нашей статьи, надеемся, успели уже познакомиться с ним настолько, чтобы не желать продолжения этого знакомства. Поэтому, оставляя в покое его книгу, мы намерены теперь исполнить обещание, данное нами в прошлой статье: сделать несколько замечаний относительно самых начал, которые навязываются древней Руси ее защитниками и которые оказываются так несостоятельными пред судом истории и здравого смысла.
Образованность древней Руси развивалась с самых древних времен под влиянием христианства. Этого никто не отвергает и не может отвергнуть. Но защитники древней Руси, рассматривая влияние христианства, представляют дело в каком-то особенном свете. Они, во-первых, приписывают его почему-то древней Руси преимущественно пред новою; во-вторых, кроме христианства, примешивают еще к делу Византию и Восток в противоположность Западу; в-третьих, формальное принятие веры смешивают с действительным водворением ее начал в сердцах народа. Все это весьма мало имеет оснований в действительности. Конечно, с распространением в России западноевропейской образованности ослабели многие верования, бывшие слишком твердыми в древней Руси. Нарушение постов и некоторых обрядов не считается теперь редкостью, как прежде, и это, конечно, нехорошо. Но надобно же отдать справедливость и новому времени хоть в том, что при распространении новых научных понятий исчезают или ослабевают многие суеверия и грубые обычаи, которыми полна была Русь древняя. И если сравнивать в этом отношении старинное время с новым, то старине никак нельзя отдать преимущества. Ежели ныне верования нередко затемняются блеском кичливого ума, набравшегося светских знаний, – то в древности эти верования страдали от примеси суеверий и грубых предрассудков. Ныне мешают вере философские воззрения, а тогда мешало язычество: – какая же выгода от этого различия для древней Руси? Равным образом, какая была сладость для народа от связей с Византиею, независимо от живительной силы самого христианства, не изменяющемся от местных и частных отличий? Византия только сообщила России педантизм и мертвенную формалистику, которую она усвоила себе гораздо ранее, нежели началось господство схоластики на Западе. Оттого мертвая буква постоянно занимала русских книжников, как бы вовсе не чувствовавших потребности в живом веянии духа. Как на доказательство образованности указывают часто на множество списков книг церковных, существовавшее в древней Руси. Но безобразные искажения в этих списках, известные из истории исправления книг, именно доказывают, что переписка была весьма часто бессмысленна. Следовательно, обилие списков (если и допустить, что оно было так велико, как предполагают некоторые) может быть важно только разве для истории каллиграфии, а никак не для истории образованности народа. То же влияние византийского педантизма видим мы и в самых расколах русских: значительная часть их произошла из-за внешних формальностей. И в то время, когда в Европе общее умственное движение возбуждено было Реформацией, у нас все спорило о нескольких словах и фразах, искаженных в книге безграмотными и бестолковыми переписчиками. Подавляя нас своим педантизмом в теории, чем же могла Византия IX века научить нас на практике? Льстивость, хитрость и вероломство были отличительными, объявленными качествами греков, современных образованию русского государства. Русские до принятия христианства ездили в Константинополь продавать там рабов; при византийском дворе они видели пышность и роскошь, которые дразнили их. Все это не слишком благотворно могло действовать на нравы древней Руси.