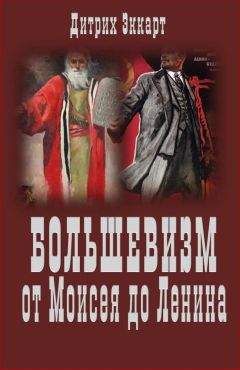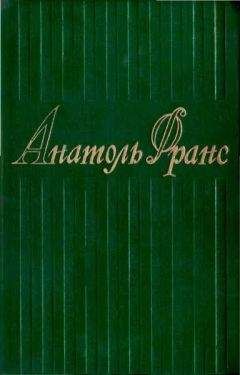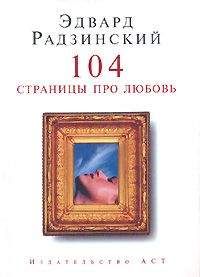Виктор Гюго - Том 14. Критические статьи, очерки, письма
Она предстает взорам одинокая, нищая и нагая, как расслабленный евангелия, — solus, pauper, nudus.
Не без некоторых колебаний автор этой драмы решился снабдить ее примечаниями и предисловием. Ведь обычно читателям до всего этого нет никакого дела. Они интересуются скорее талантом писателя, чем его образом мыслей; им важно только, чтобы произведение было хорошим или плохим, а какие идеи лежат в его основе, каково направление ума автора, им совершенно безразлично. Обойдя залы здания, никто не станет заглядывать в его подвалы, и когда мы едим плод дерева, мы не думаем о его корнях.
С другой стороны, примечания и предисловия иногда служат удобным средством увеличить объем книги и придать труду, хотя бы с виду, больше значительности. Это напоминает тактику полководцев, выстраивающих в линию даже обоз, чтобы сделать свой фронт более внушительным. К тому же может случиться так, что пока критики будут нападать на предисловие, а ученые — на примечания, само произведение ускользнет от них, пройдя неповрежденным сквозь их перекрестный огонь, подобно армии, выходящей из затруднительного положения между битвами в аванпостах и в арьергарде.
Автором руководили не эти, столь, впрочем, веские, мотивы. «Раздувать» этот том не было надобности — он и без того слишком велик. К тому же, по непонятным для самого автора причинам, его предисловия, искренние и простодушные, всегда больше роняли его во мнении критиков, чем защищали. Они не только не служили для него крепким и надежным щитом, но оказывали ему плохую услугу, как та необычная одежда, которая выделяет в сражении носящего ее солдата и навлекает на него все удары, не защищая ни от одного из них.
У автора были другие соображения. В самом деле, ради удовольствия никто не станет спускаться в подвалы здания, но иногда мы не прочь осмотреть его фундамент. Поэтому он еще раз отдает себя вместе со своим предисловием гневу фельетонистов. Che sara, sara. [38] Никогда он особенно не беспокоился о судьбе своих произведений, и его не очень пугает, «что скажут» в литературном мире. Среди этих пылких споров, столкнувших друг с другом театры и школу, публику и академии, может быть привлечет к себе некоторое внимание голос одинокого ученика природы и истины, рано покинувшего литературный мир из любви к литературе и предлагающего искренность — за неимением «хорошего вкуса», убежденность — за неимением таланта, усердие — за неимением учености.
Впрочем, он ограничится общими рассуждениями об искусстве, ни в коем случае не делая их оплотом собственного произведения, не желая писать ни обвинительной, ни защитительной речи за или против кого бы то ни было. Меньше, чем кто-либо, придает он значение нападкам на его книгу или защите ее. Кроме того, ему не по душе сражаться за собственные интересы. Битва честолюбий — всегда жалкое зрелище. Поэтому он заранее протестует против всякого истолкования его мыслей, всякого применения его слов, повторяя вместе с испанским баснописцем:
Quien haga aplicationes
Con su pan se lo coma.[39]
Правда, многие из главных поборников «здравых литературных понятий» оказали ему честь, бросив ему перчатку, ему, пребывающему в глубокой неизвестности, простому и незаметному зрителю этой забавной схватки. У него не хватит дерзости поднять ее. Вот те соображения, которые он мог бы им противопоставить; вот его праща и его камень. Но пусть другие, если они того пожелают, метнут этим камнем в головы классическим Голиафам.
Итак, перейдем к делу.
Мы исходим из следующего факта: не всегда на земле существовала одна и та же цивилизация, или, употребляя выражение более точное, хотя и более широкое, — одно и то же общество. Человеческий род в его совокупности рос, развивался, созревал, как каждый из нас. Он был ребенком, он был мужем: теперь мы наблюдаем его почтенную старость. До той эпохи, которую современное общество называет античной, существовала другая эра, которую древние называли легендарной, хотя точнее было бы назвать ее первобытной. Вот три великих последовательных формы цивилизации с самого ее зарождения вплоть до нашего времени. А так как поэзия всегда являет собой точное подобие общества, мы постараемся определить, на основании природы последнего, каковы были особенности поэзии в эти три великие эпохи — первобытную, античную и новую.
В первобытную эпоху, когда человек пробуждается посреди только что родившегося мира, вместе с ним пробуждается и поэзия. Чудеса эти ослепляют и опьяняют его, и первое его слово — это гимн. Он еще так близок к богу, что все его размышления — это восторги, все его мечты — видения. Он изливает свои чувства, он поет так же, как дышит. На его лире только три струны: бог, душа, творение, но эта тройная тайна покрывает собой все, но эта тройная идея охватывает все. Земля еще почти пустынна. Есть семьи, но нет народов; есть отцы, но нет королей, и каждый род существует свободно; нет собственности, нет закона, нет столкновений, нет войн. Все принадлежит каждому и всем. Общество — это община. Человек ничем не стеснен в ней. Он ведет ту кочевую пастушескую жизнь, которая является началом всякой цивилизации и так благоприятствует одиноким созерцаниям, причудливым грезам. Он отдается течению жизни; его мысль, как и его жизнь, подобна облаку, которое меняет форму и направление в зависимости от ветра, его уносящего.
Таков первый человек, таков первый поэт. Он молод, он лиричен. Молитва — вот вся его религия, ода — вот вся его поэзия.
Эта поэма, эта ода первобытных времен — «Книга бытия».
Но постепенно юность мира проходит. Все развивается; семья становится племенем, племя — нацией. Каждая из человеческих групп располагается вокруг одного общего центра; так возникают царства. Инстинкт кочевой сменяется инстинктом общественным. Становище уступает место селению, палатка — дворцу, ковчег — храму. Вожди этих возникающих государств, конечно, еще пастыри, но уже пастыри народов; их пастырский посох уже имеет форму скипетра. Все устанавливается и приобретает отчетливые очертания. Религия принимает определенную форму; обряды подчиняют молитву правилам; культ обрастает догматами. Так жрец и царь делят между собой отцовскую власть над народом; так патриархальную общину сменяет теократическое общество.
Между тем народам становится слишком тесно на земном шаре, они мешают друг другу и ссорятся между собой; отсюда — столкновения царств, война.[40]
Они вторгаются в чужие пределы; отсюда — переселение народов, странствия.[41]
Поэзия отражает эти великие события. От идей она переходит к делам; она воспевает века, народы, царства. Она становится эпической, она порождает Гомера.
Действительно, Гомер властвует над античным обществом. В этом обществе все просто, все эпично. Поэзия — это религия, религия — это закон. Девственность первой эпохи сменилась целомудрием второй. Отпечаток какой-то торжественной важности лежит на всем — на семейных нравах, на нравах общественных. Народы сохранили от бродячей жизни только уважение к чужеземцу и путешественнику. У семьи есть родина; все привязывает ее к ней; существует культ очага, культ могилы.
Повторяем: выражением такой цивилизации может быть только эпопея. Эпопея будет принимать здесь множество форм, но никогда не утратит своего характера. Поэзия Пиндара — поэзия скорее жреческая, чем патриархальная, скорее эпическая, чем лирическая. Летописцы, неизбежные спутники этой второй эпохи мира, уже собирают предания и ведут счет столетиями, — но, несмотря на все их старания, хронология не в силах вытеснить поэзию; история остается эпопеей. Геродот — это тот же Гомер.
Но с особенной силой эпопея проявляется в античной трагедии. Она поднимается на греческую сцену, как бы совсем не теряя своих грандиозных, гигантских размеров. Ее персонажи всё те же герои, полубоги, боги; силы, движущие ее действие, — это сновидения, прорицания, судьба; ее картины — перечисления народов, погребения, битвы. То, что пели рапсоды, теперь декламируют актеры, — вот и вся разница.
Но это еще не все: после того, как перешло на сцену все действие, все образы эпической поэмы, остальное берет себе хор. Хор поясняет трагедию, ободряет героев, дает описания, призывает и гонит день, радуется, скорбит, иногда описывает декорации, объясняет нравственный смысл сюжета, льстит слушающему его народу. И что же такое хор, этот странный персонаж, стоящий между зрелищем и зрителем, как не поэт, завершающий свою эпопею?
Театр древних, подобно их драме, грандиозен, торжествен, эпичен. Он может вместить тридцать тысяч зрителей; здесь играют под открытым небом, при ярком солнце; представление длится целый день. Актеры усиливают свой голос, закрывают масками лица, увеличивают свой рост; они становятся гигантскими, как их роли. Сцена имеет колоссальные размеры. Она может одновременно изображать внутренний и внешний вид храма, дворца, лагеря, города. На ней развертываются огромные зрелища. Это (мы говорим только то, что помним) Прометей на своей горе; Антигона, с высоты башни ищущая глазами своего брата Полиника среди вражеского войска («Финикиянки»); Эвадна, бросающаяся с высокой скалы в костер, где сжигают тело Капанея («Молящие о защите» Еврипида); входящий в гавань корабль, из которого высаживаются пятьдесят царевен с их свитой («Молящие о защите» Эсхила). Архитектура и поэзия — все носит здесь монументальный характер. Античность не знает ничего более торжественного, ничего более величественного. Ее культ и ее история соединяются в ее театре. Ее первые актеры — жрецы; ее сценические игры — это религиозные церемонии, народные празднества.