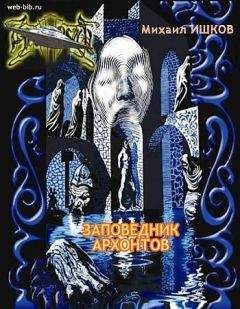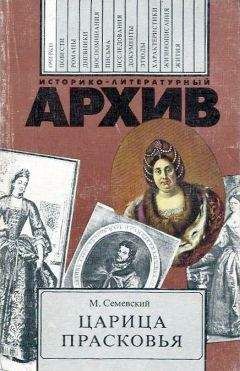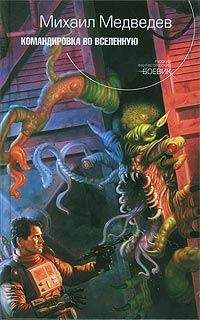Михаил Семевский - Прогулка в Тригорское
После нескольких строк, обращенных к отсутствующей красавице- «предмету поэтов самохвальных» — прославленной и им, Языковым, поэт продолжает:
Прошел, прошел мой сон приятный;
— А мир стихов? но мир стихов,
Как все земное, коловратный
Наскучил мне и нездоров!
Его покину я подавно:
Недаром прежний доброход (sic)
Моей богини своенравной
Середь Москвы перводержавной
Меня бранил во весь народ,
И возгласил правдиво-смело,
Что муза юности моей
Скучна, блудлива: то и дело
Поет, вино, табак, друзей;
Свое, чужое повторяет;
Разнообразна лишь в словах,
И мерной прозой восклицает
О выписных профессорах![184]
Помилуй бог, его я трушу!
Отворотил он навсегда
От вдохновенного труда
Мою заносчивую душу.
Дерзну ли снова я играть
Богов священными дарами?
Кто осенит меня хвалами?
Стихи — куда мне их девать?
Везде им горькая судьбина!
Теперь, ведь, будут тяжелы
Они заплечью «Славянина»[185]
И крыльям «Северной Пчелы».
— Что ж? в белокаменную, с богом! —
В «Московский Вестник»?[186]. Трудно, брат,
Он выступает в чине строгом,
Разборчив, горд, аристократ;
Так и приязнь ему не в лад
Со мной, парнасским демагогом!
— Ну в «Афеней»? — Что? «Афеней»?[187]
Журнал мудрено-философский.
Отступник Пушкина, злодей,
«Благонамеренный»[188] московский.
Что ж делать мне, товарищ мой?
Итак — в пустыню удаляюсь,
В проказах жизни удалой
Я сознаюсь, сердечно каюсь,
Не возвращуся к ним,
и проч.
Но, разумеется, Языков не исполнил своего шутливого обета: он продолжал, от времени до времени, седлать своего бойкого Пегаса, продолжал и следить с живейшим любопытством за произведениями своего «первосвятителя» в поэзии. Так, получив «Северные Цветы» на 1829 год, Языков писал Вульфу: «сердечно трепещу от радости, видя в них отрывок из романа Пушкина — подвиг великий и лучезарный» [189]. В том же году Языков решился наконец, после шестилетнего пребывания в Дерпте, оставить этот город… «Через месяц, много через два, — писал Языков к своему другу 9-го февраля 1829 г.,- покину я Дерпт навеки — сяду в деревне симбирской, буду петь жизнь патриаршескую, Волгу, тебя и еще кое-кого и кое-что — и вот все мои надежды на совершение давно желанных подвигов. Дерпт мне так надоел, что я бы бежал отсюда пешком, если б не стыдился оставить здесь мое прозвание на позор заимодавцам… Кланяйся Пушкину; первое мое дело литературное в Симбирске будет отповедь к нему о моем житье-бытье…» Без грусти покидал Языков Дерпт, тот самый город, в котором родились первые произведения его музы. А между тем, не так еще давно перед тем, поэт, обращаясь к Дерпту в особо посвященном ему стихотворении, до сих пор остававшемся в рукописи, говорил:
Моя любимая страна,
Где ожил я, где я впервые
Узнал восторги удалые
И музы песен и вина;
Где милы юности прекрасной
Разнообразные дары,
Студентов шумные пиры,
Веселость жизни самовластной,
Свобода мнений, удаль рук,
Умов небрежное волненье
На поле славы и наук
И филистимлянам гоненье —
Мы здесь творим свою судьбу,
Здесь гений драться не обязан
И — Христа ради — не привязан
К… столбу, —
Приветы вольные, живые,
Тебе, любимая страна,
Где ожил я, где я впервые
Узнал восторги удалые
И музы песен и вина[190].
В то время, когда Языков прощался с Дерптом, Пушкин, утомясь петербургскою жизнью, мчался на Кавказ. Быстро пронеслись для него несколько месяцев в беспрерывных разъездах: ряд новых впечатлений, охвативших поэта, освежил его, и он с запасом новых сил, бодрый, веселый, осенью того же года ехал уже обратно в Петербург. Биограф Пушкина, следя за ним из месяца в месяц, затрудняется определить, где именно находился поэт с 8-го сентября, день отъезда его из Горячеводска, до 16-го ноября 1829 года, вероятно, дня прибытия его в Петербург [191]. Мы отчасти можем разъяснить недоумение биографа: перед нами лежит письмо Пушкина к Вульфу из тверской деревни последнего: Малинники, от 16-го октября 1829 года[192]. Независимо от того, что письмо это указывает нам место, где отдыхал поэт от своей поездки в Арзерум и от трудов на поле брани, письмо само по себе, по тону и складу своему, чрезвычайно любопытно; обстановка ли, окружающая поэта, вообще ли веселое настроение духа, которое обыкновенно овладевало им в деревне, среди любезных и искренне расположенных к нему лиц, как бы то ни было, но 30-летний Пушкин, в письме своем к приятелю, является шутливым балагуром, остряком, проказником, тем самым Пушкиным, каким он был в первые годы по выходе из лицея. Приводим это письмо буквально, с небольшими, однако, выпусками, так как некоторые места его не могут явиться в печати:
«Проезжая из Арзрума в Петербург, я своротил вправо и прибыл в Старицкой уезд для сбора некоторых недоимок. Как жаль, любезный Ловлас Николаевич, что мы здесь не встретились! то-то побесили бы мы Баронов и простых дворян! По крайней мере, честь имею представить вам подробный отчет о делах наших и чужих.
I) В Малинниках застал я одну Анну Николаевну с флюсом и с Муром. Она приняла меня с обыкновенной своей любезностию и объявила мне следующее: а) Евпраксия Николаевна и Александра Ивановна отправились в Старицу осмотреть новых уланов[193]; в) Александра Ивановна заняла свое воображение отчасти талией К-ва[194], отчасти бакенбардами и картавым выговором Ю-ва[195]; с) Гретхен[196] хорошеет и час-от-часу делается невиннее (сейчас Анна Николаевна объявила, что она того не находит).
II) В Павловском Фридерика Ивановна страждет флюсом; Павел Иванович стихотворствует с отличным успехом. На днях исправил он наши общие стихи следующим образом:
Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И воспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза[197].
Не правда ли, что это очень мило[198].
III) В Бернове [199] я не застал уже толсто… Минерву[200]. Она со своим ревнивцем отправилась в Саратов. Зато Netty, нежная, томная, истерическая потолстевшая Netty[201] — здесь. Вы знаете, что Миллер из отчаяния кинулся к ее ногам; но она сим не тронулась. Вот уже третий день, как я в нее влюблен.
IV) Разные известия. Поповна (ваша Кларисса) в Твери[202]. Писарева кто-то прибил, и ему велено подать в отставку, Кн. Максютов[203] влюблен более, чем когда-нибудь. Иван Иванович на строгой диэте (…своих одалисок раз в неделю)[204]. Недавно узнали мы, что Netty, отходя ко сну, имеет привычку крестить все предметы, окружающие ее постель. Постараюсь достать… — Сим позвольте заключить поучительное мое послание. 16-го октября [205]».
Молодой гусар, к которому адресовано было это шутливое послание, еще в феврале того года оставил Петербург и, благословляемый Языковым печатными и рукописными посланиями, отправился на поле брани. „Еще тебя благословляю“, — писал к нему, между прочим, Языков:
Мой добрый друг, воспетый мной.
Лихой гусар, родному краю
Слуга мечом и головой —
Христолюбивого поэта
Надежду грудью оправдай
Рубись — и царство Магомета
Неумолимо добивай![206]
„Давно не имел удовольствия письменно говорить с вами, — писал к г-же Осиповой тогда же и о том же гусаре барон Дельвиг, — но часто слышал об вас от милого Алексея Николаевича и Пушкина. Спрашивал об вас и был доволен, имея возможность узнавать, где вы и здоровы ли. Теперь, расставаясь с вашим юным воином, теряю надежду иметь от вас известие иначе, как утрудить вас просьбою посылать по нескольку ваших строчек к Дельвигу, всегда уважавшему и любившему вас… Я, издавши „Северные Цветы“, как будто от изнеможения занемог и прохворал целый месяц“ и проч». [207]
Лето 1830 года, к которому мы теперь и переходим, было ужасное: страшная гостья, холера, дотоле неизвестная на Руси, валила народ тысячами, вызывала учреждение карантинов и разные другие меры, показывавшие полное незнакомство с этою болезнью и между тем повергавшие всех и каждого в большое беспокойство; там и здесь вспыхивали возмущения… Время было тяжелое, кровавое, одно из тех, в которые простодушные наши прадеды обыкновенно видели приближение преставления света… Между тем, именно начало этого страшного года ознаменовалось в жизни Пушкина событием весьма важным: он сделал предложение Наталье Николаевне Гончаровой, получил согласие и в августе того же года, уже в качестве жениха, спешил в нижегородскую деревню отца своего, в село Болдино, для устройства дел своих по этому имению, часть которого уступлена была ему отцом. Карантины заперли нашего поэта в Болдине на гораздо большее время, нежели он предполагал. Несмотря на то, что поэт наш не терял времени и именно в Болдине окончил „Евгения Онегина“ и написал множество лучших своих произведений [208], тем не менее счастливый жених несколько раз пытался освободиться из невольного заключения и прорваться сквозь цепь карантинов в Москву; попытки однако довольно долго оставались безуспешными. Вот что, между прочим, писал об этом Пушкин в Тригорское: