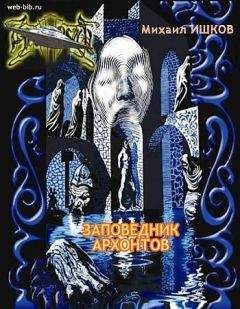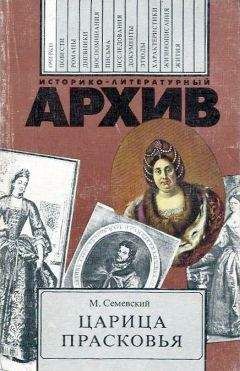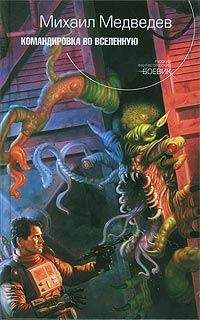Михаил Семевский - Прогулка в Тригорское
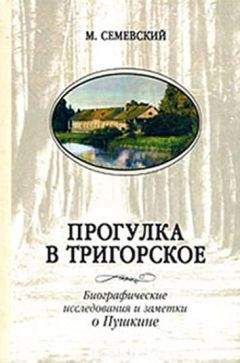
Обзор книги Михаил Семевский - Прогулка в Тригорское
Михаил Семевский
Прогулка в Тригорское
I
…и в дали, в краю чужом
Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом,
В лугах у речки, над холмом,
В саду, под сенью лип домашней…
А. Пушкин
(из стих. 1825 г. к П. А. Осиповой).…Со смехом и шутками садилась наша веселая, молодая компания на поданные нам экипажи: на какую-то особую линейку, долгушу, уселось человек восемь: тут была и влюбленная чета, барон С. В. с бар. С. М. С, и мисс С. с очаровательными глазками, которые всю нашу молодежь сводили с ума, здесь же была и «Lа belle Hélène», тут… для чего же, однако, любезнейший читатель, вздумал я перечислять всех тех прекрасных особ, которые уселись на фараоновскую долгушу (шутники уверяют, что на этаких долгушах Фараон, царь египетский, преследуя израильтян, выкупался в Черном море); к чему вас и знакомить с этими очаровательными особами?.. Разве к тому только, чтоб убедить вас, что и пишущий эти строки всею душою стремился занять местечко именно на этой же долгуше и нужен был какой-нибудь особенный случай, чтоб разом, так сказать, осадить его мечтания и дать им совершенно другое направление… Да, и «случай случился». К подъезду была подана высокая, прочная, несколько старомодная коляска. «Это коляска поэта Пушкина», сказали мне уважаемые хозяева радушного, незабвенного для меня села Голубова [1], из которого наше общество и отправлялось в увеселительную прогулку[2]…
— Да, — подтвердил сопутник мой Алексей Николаевич Вульф: — это коляска Пушкина, он ее купил в 1830 годах у лучшего в то время мастера, ездил в ней, а затем, после смерти поэта, я купил коляску у вдовы его…
Я чуть было не снял шляпу пред этой поэтически-археологическою достопамятностью и с полным доверием влез в этот экипаж. Да и как было не поспешить занять местечко «в коляске поэта», когда сопутником моим был Алексей Николаевич Вульф, тот самый Вульф, лихой дерптский студент, потом не менее удалой гусар, сердечным, неизменным, наивернейшим другом которого был поэт Языков[3] — тот самый Вульф, которого приятелем был Пушкин, тот самый Вульф, наконец, которому принадлежит знаменитое Тригорское, воспетое и в стихах и в прозе, этот достославный приют, под сенью которого нашли столько вдохновения, столько поэтического огня музы наших знаменитых поэтов! Я, кажется, впадаю в некоторый пафос? Да простит мне «благоразумный читатель». Что делать! Я, увы, не могу согласиться с теми критиками, по рецепту которых следует говорить о наших литературных знаменитостях прошедшего времени — полуснисходительно, полупрезрительно; я (еще больше пускаюсь в откровенность) даже с каким-то особенным чувством уважения (чуть-чуть не сказал благоговения) обращаюсь к людям, которых эти знаменитости считали своими приятелями и друзьями. Для меня Пушкин все еще гордость, честь и краса нашего Парнаса! Об этом-то великом жреце всероссийского Парнаса у нас с А. Н. и не умолкала беседа в течение добрых двух часов, которые мы употребили на проезд 16 верст, отделяющих Тригорское от Голубова… Ниже я приведу если не все, то многое, что слышал от Алексея Николаевича о его друзьях — Пушкине и Языкове; теперь же позвольте мне полюбоваться на самое Тригорское.
Переплыв на пароме извилистую, неширокую реку Сороть — близ сельца Дериглазова — мы пошли пешком. Под словом мы — разумею только себя с Алексеем Николаевием и одну, весьма еще юную, тем не менее с весьма выразительным личиком, особу, которая также ехала с нами в коляске поэта; до авангарда нашего мне уже не было никакого дела; я весь превратился в слух, внимая рассказам Алексея Николаевича, и смотрел на дивную, очаровательную картину, открывшуюся предо мною… Над зелеными, низменными лугами, орошаемыми Соротью, поднимаются три обрывистые горы, пересеченные глубокими оврагами. Крутые скаты возвышенностей покрыты кустами и зеленью; там и здесь бегут вверх извилистые тропинки. На самом верху двух гор возвышаются две церкви; от них влево тянется ряд строений: этот, ныне довольно большой погост Воронич, некогда знаменитый пригород псковской державы. По преданию, пригород был так велик и так густо населен, что в нем было до 70 церквей. Дома жителей покрывали не только среднюю (собственно нынешнее городище), но и левую гору, где ныне погост, а также и низменные луга, расстилающиеся у подошвы гор. На лугах этих до сих пор видны ямы, попадаются камни и вообще видны следы бывших здесь в старину построек. Что же касается до населенности пригорода, то о ней можно судить уже по тому, что население это могло выдержать две осады грозного князя литовского Витовта, во время его вторжений в псковскую землю. Первый раз, в 1406 году, Витовт простоял под «Вороночем городом» двое суток и ничего не мог сделать, так что в досаде своей враг отступит, «наметаша рать мертвых детей две ладьи», не бывала, замечает по этому случаю летописец «пакость такова (как) и Псков стал, а то все за умножение грех ради наших…» После того двадцать лет спустя Вороночь выдержал вторую, несравненно сильнейшую, осаду; вот как о ней повествует летописец: «В субботу рано (3-го августа 1426 г.) поиде Витовт (от Опочки, под которой он стоял два дня и две ночи) рано поиде к Вороночю, и стал под Вороночем в понедельник, месяца августа в 5, и стоял под Вороночем три недели, пороки исчинивше и шибаючи на град, а Вороночаном притужно бяше велми; и Вороночане и посадники их Тимофей и Ермола начата вести слати ко Пскову: „господа Псковичи! помогайте нам и гадайте о нас; нам ныне притужно велми“, И Псковичи послаша с челобитьем Федора посадника Шибалкиначи, под Вороночь, ко князю Витовту в рать, и начата челом биси князю Витовту, и он не прия челобитья псковского… И паки он, неверник христианские веры, князь Витовт нача лестьми своими льстити Вороночанам о перемирии, занеже в то время в нощь бысть туча грозна и страшна велми молния и блистания и гром страшен зело, и взя перемирие с Вороночаны…»
Городище обнесено высоким валом; с задней стороны, то есть с противоположной к реке Сороти, хорошо сохранилась так называемая «вышка», т. е. высокая насыпь, с которой обозревали местность и наблюдали за движениями неприятеля доблестные вороночане. В осыпях валов нередко еще, в недавнее время, находили ядра и кувшины с монетами…
Близ этого-то знаменитого городища, на том же берегу Сороти, наверху горы, стоит село Алексея Николаевича Вульфа — знаменитое Тригорское. Глубокий овраг, по дну которого идет дорога в село, отделяет его от Вороныча. Постройка села деревянная, скученная в одну улицу, на конце которой стоит длинный, деревянный же, одноэтажный дом. Архитектура его больно незамысловата; это — не то сарай, не то манеж, оба конца которого украшены незатейливыми фронтонами. Дело в том, что эта постройка никогда и не предназначалась под обиталище владелиц и владельцев Тригорского; здесь в начале настоящего столетия помещалась парусинная фабрика, но в 1820 еще годах — тогдашняя владелица Тригорского задумала перестроить обветшавший дом свой, бывший недалеко от этой постройки, и временно перебралась в этот «манеж»… да так в нем и осталась. Перестройка же дома откладывалась с году на год, едва ли не до тех пор, пока года четыре тому назад от неосторожного выстрела одного юноши сгорело в Тригорском несколько построек, и в том числе погибли руины дома, состоявшего «в вечном подозрении», что-де наступит же время, когда его перестроят; пожар, однако, пощадил временное помещение обладателей Тригорского. Да и слава богу, так как именно этот, больно неказистый дом, и было то убежище, где физически, а еще более нравственно отдыхал бессмертный поэт наш и в живых, увлекательных беседах с хозяйками Тригорского черпал новые силы к своей поэтической деятельности… Обойдемте комнаты. Мария Ивановна Осипова, нынешняя хозяйка Тригорского [4], хотя несколько и недовольна, что компания нагрянула не предуведомив, именно «в самый адмиральский час», и она не успеет распорядиться угостить все общество таким обедом, каким бы хотелось хлебосольной хозяйке, но, будьте уверены, лишь только начнет она вспоминать о Пушкине, явится и доброе расположение духа, и любезность, и приветливость… Мария Ивановна была еще очень молода, когда Пушкин почти живмя-жил в Тригорском; но она свято чтит малейшее воспоминание о дорогом друге всей ее фамилии. «Семья наша, — так рассказывала Мария Ивановна Осипова, — в 1824–1826 годах, т. е. в года заточения Александра Сергеевича в сельце Михайловском [5], состояла из следующих лиц: маменьки нашей Прасковьи Александровны[6], вдовствовавшей тогда по втором уже муже, а моем отце, г. Осипове, и из сестер моих от другого отца: Анны Николаевны и Евпраксии Николаевны Вульф[7], и родных сестер моих Катерины и Александры Осиповых, Брат Алексей Николаевич был в то время студентом в Дерпте и наезжал сюда на святки и каникулы. Все сестры мои были в то время невестами, и из них особенно хороша была Евпраксия. Каждый день, часу в третьем пополудни, Пушкин являлся к нам из своего Михайловского. Приезжал он обыкновенно верхом на прекрасном аргамаке, а то, бывало, приволочится и на крестьянской лошаденке. Бывало все сестры мои, да и я, тогда еще подросточек, — выйдем к нему навстречу… Раз, как теперь помню, тащится он на лошаденке крестьянской, ноги у него чуть не по земле волочатся — я и ну над ним смеяться и трунить. Он потом за мной погнался, все своими ногтями грозил; ногти ж у него такие длинные, он их очень берег… Приходил, бывало, и пешком; подберется к дому иногда совсем незаметно; если летом, окна бывали раскрыты, он шасть и влезет в окно… Что? Ну уж, батюшка, в какое он окно влезал, не могу вам сказать: мало ли окон-то? он, кажется, во все перелазил… Все у нас, бывало, сидят за делом: кто читает, кто работает, кто за фортепиано… Покойная сестра Alexandrine, как известно вам, дивно играла на фортепиано; ее, поистине, можно было заслушаться… Я это, бывало, за уроками сижу. Ну, пришел Пушкин, — все пошло вверх дном; смех, шутки, говор — так и раздаются по комнатам. Я и то, бывало, так и жду его с нетерпением, бывало, никак не совладаешь с каким-нибудь заданным переводом; пришел Пушкин — я к нему подбегу: „Пушкин, переведите!“» и вмиг перевод готов… Впрочем, немецкий язык он плохо знал, да и не любил его; бывало, к сестрам принесет книгу, если что ему нужно перевести с немецкого. А какой он был живой; никогда не посидит на месте, то ходит, то бегает! Да, чего, уж впоследствии, когда он приезжал сюда из Петербурга, едва ли уж не женатый, сидит как-то в гостиной, шутит, смеется; на столе свечи горят: он прыг с дивана, да через стол, и свечи-то опрокинул… Мы ему говорим: «Пушкин, что вы шалите так, пора остепениться», — а он смеется только. В комнате почти все, что вы видите, все так же было и при Пушкине: в этой зале стоял этот же большой стол, эти же простые стулья кругом, — те же часы хрипели в углу; а вот, на стене висит потемневшая картина: на нее частенько заглядывался Пушкин[8].