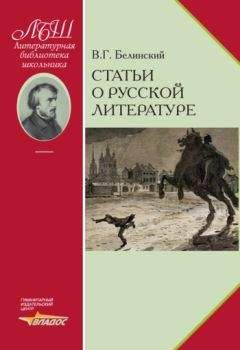Николай Добролюбов - Статьи о русской литературе (сборник)
Такое же мгновенное освобождение от пошлости происходит с ним после дуэли Пушкина. У Лермонтова явилась мысль вызвать убийцу. Когда лучший друг Лермонтова, Столыпин, заметил шутя, что у него «слишком раздражены нервы», Лермонтов набросился на Столыпина чуть не с кулаками и закричал, чтоб он сию же минуту убирался, иначе он за себя не отвечает. «Mais il est fou а lier!»[96] – воскликнул Столыпин уходя.
Стихотворение «На смерть Пушкина» признано было в придворных кругах за «воззвание к революции». Это, конечно, вздор: далеко было Лермонтову до революции. Но недаром сравнивает его Достоевский с декабристом Мих. Луниным: при других обстоятельствах и Лермонтов мог бы кончить так же, как Лунин.
В детстве он напускался на бабушку, когда она бранила крепостных, выходил из себя, когда вели кого-нибудь наказывать, и бросался на отдавших приказание с палкою, с ножом – что под руку попало.
Однажды в Пятигорске, незадолго до смерти, обидел неосторожным словом жену какого-то маленького чиновника и потом бегал к ней, извинялся перед мужем, так что эти люди не только простили его, но и полюбили, как родного.
Бабушка Лермонтова после смерти внука оплакивала его так, что веки на глазах ослабели и она не могла их поднять. Кое-что знала она о «ядовитой гадине», чего не знал Вл. Соловьев и Достоевский.
Однажды, после долгих лет разлуки с любимой женщиной, которая вышла замуж за другого, увидел он дочь ее, маленькую девочку. Долго ласкал ребенка, наконец, горько заплакал и вышел в другую комнату. Тогда же написал стихотворение «Ребенку»:
О грезах юности томим воспоминаньем,
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю.
О если б знало ты, как я тебя люблю!..
Должно быть, в эту минуту лицо его было особенно похоже на лицо его матери: исчез разлад между слишком умным, тяжелым взором и «детски нежным выражением губ»; в глазах была небесная мудрость, а в губах земная скорбь любви. И если бы тогда увидели его Вл. Соловьев и Достоевский, то, может быть, поняли бы, что не разгадали чего-то самого главного в этой «душе печальной, незнакомой счастью, но нежной, как любовь».
«Какая нежная душа в нем!» – воскликнул Белинский. И тот же университетский товарищ, который, заговорив с Лермонтовым, отскочил, «как ужаленный», заключает свой рассказ: «...он имел душу добрую, я в этом убежден». «Недоброю силою веяло от него», – говорит Тургенев.
Что же, наконец, добрый или недобрый?
И то, и другое. Ни то, ни другое.
Самое тяжелое, «роковое» в судьбе Лермонтова – не окончательное торжество зла над добром, как думает Вл. Соловьев, а бесконечное раздвоение, колебание воли, смешение добра и зла, света и тьмы.
Он был похож на вечер ясный,
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.
Это и есть премирное состояние человеческих душ, тех нерешительных ангелов, которые в борьбе Бога с дьяволом не примкнули ни к той, ни к другой стороне. Для того чтобы преодолеть ложь раздвоения, надо смотреть не назад, в прошлую вечность, где борьба эта началась, а вперед, в будущую, где она окончится с участием нашей собственной воли. Лермонтов слишком ясно видел прошлую и недостаточно ясно будущую вечность: вот почему так трудно, почти невозможно ему было преодолеть ложь раздвоения.
«Верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные», – говорит Печорин. Но это – «необъятная сила» в пустоте, сила метеора, неудержимо летящего, чтобы разбиться о землю. Воля без действия, потому что без точки опоры. Все может и ничего не хочет. Помнит, откуда, но забыл, куда.
«Зачем я жил? – спрашивает себя Печорин, – для какой цели я родился?» Категория цели, свободы открывается в будущей вечности; категория причины, необходимости – в прошлой.
Вот почему у Лермонтова так поразительно сильно чувство вечной необходимости, чувство рока – «фатализм». Все, что было во времени, будет в вечности; нет опасного, потому что нет случайного.
Кто близ небес, тот не сражен земным.
Отсюда – бесстрашие Лермонтова, игра его со смертью.
«Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, – сказано в донесении одного кавказского генерала, – во время штурма неприятельских завалов на реке Валерике имел поручение наблюдать за действием передовой штурмовой колонны, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот исполнил возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».
За экспедицию в Большую Чечню представили его к золотой сабле.
Игра со смертью для него почти то же, что в юнкерской школе игра с железными шомполами, которые он гнул в руках и вязал в узлы, как веревки.
«Никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице его перед дулом пистолета, уже направленного на него», – рассказывает кн. Васильчиков о последних минутах Лермонтова.
Не совсем человек – это сказывается и в его отношении к смерти. Положительно религиозного смысла, может быть, и не имеет его бесстрашие, но оно все-таки кладет на личность его неизгладимую печать подлинности: хорош или дурен, он, во всяком случае, не казался, а был тем, чем был. Никто не смотрел в глаза смерти так прямо, потому что никто не чувствовал так ясно, что смерти нет.
Кто близ небес, тот не сражен земным.
Когда я сомневаюсь, есть ли что-нибудь, кроме здешней жизни, мне стоит вспомнить Лермонтова, чтобы убедиться, что есть. Иначе в жизни и в творчестве его все непонятно – почему, зачем, куда, откуда, главное – куда?
VII
Лермонтов первый в русской литературе поднял религиозный вопрос о зле.
Пушкин почти не касался этого вопроса. Трагедия разрешалась для него примирением эстетическим. Когда же случилось ему однажды откликнуться и на вопрос о зле, как на все откликался он, подобно «эху»:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты нам дана? —
то вместо религиозного ответа удовольствовался он плоскими стишками известного сочинителя православного катехизиса, митрополита Филарета, которому написал свое знаменитое послание:
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.
А. И. Тургенев описывает, минута за минутой, предсмертные страдания Пушкина: «...ночью он кричал ужасно, почти упал на пол в конвульсии страдания. Теперь (в полдень) я опять входил к нему; он страдает, повторяя: „Боже мой, Боже мой! что это?..“ И сжимает кулаки в конвульсии».
Вот в эти-то страшные минуты не утолило бы Пушкина примирение эстетическое; православная же казенщина митрополита Филарета показалась бы ему не «арфою серафима», а шарманкою, вдруг заигравшею под окном во время агонии.
«Боже мой, Боже мой! что это?..» – с этим вопросом, который явился у Пушкина только в минуту смерти, Лермонтов прожил всю жизнь.
«Почему, зачем, откуда зло?» Если есть Бог, то как может быть зло? Если есть зло, то как может быть Бог?
Вопрос о зле связан с глубочайшим вопросом теодицеи, оправдания Бога человеком, состязания человека с Богом.
«О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим! Скажу Богу: не обвиняй меня; объяви мне, за что Ты со мною борешься?»
Богоборчество Иова повторяется в том, что Вл. Соловьев справедливо называет у Лермонтова «тяжбою с Богом»; «Лермонтов, – замечает Вл. Соловьев, – говорит о Высшей воле с какою-то личною обидою».
Эту человеческую обиженность, оскорбленность Богом выразил один из современных русских поэтов:
Я – это Ты, о Неведомый,
Ты, в моем сердце обиженный[97].
Никто никогда не говорил о Боге с такой личною обидою, как Лермонтов:
Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей?
Никто никогда не обращался к Богу с таким спокойным вызовом:
И пусть меня накажет Тот,
Кто изобрел мои мученья.
Никто никогда не благодарил Бога с такой горькою усмешкою:
Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне
Недолго я еще благодарил.
Вл. Соловьев осудил Лермонтова за богоборчество. Но кто знает, не скажет ли Бог судьям Лермонтова, как друзьям Иова: «...горит гнев Мой за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов», – раб Мой Лермонтов.
В книге Бытия говорится о борьбе Иакова с Богом:
«И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари. И увидел, что не одолевает его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал ему: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, доколе не благословишь меня».
Вот что окончательно забыто в христианстве – святое богоборчество. Бог не говорит Иакову: «Смирись, гордый человек!» – а радуется буйной силе его, любит и благословляет за то, что не смирился он до конца, до того, что говорит Богу: «Не отпущу Тебя». Нашему христианскому смирению это кажется пределом кощунства. Но это святое кощунство, святое богоборчество положено в основу Первого Завета, так же как борение Сына до кровавого пота – в основу Второго Завета: «...тосковал и был в борении до кровавого пота», – сказано о Сыне Человеческом.