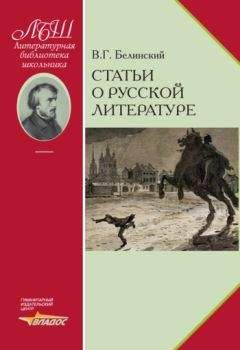Николай Добролюбов - Статьи о русской литературе (сборник)
«Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал; ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если бы услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать». Песня матери – песня ангела:
И голос той песни в душе молодой
Остался без слов, но живой...
Вся поэзия Лермонтова – воспоминание об этой песне, услышанной в прошлой вечности.
Постоянно и упорно, безотвязно, почти до скуки, повторяются одни и те же образы в одних и тех же сочетаниях слов, как будто хочет он припомнить что-то и не может и опять припоминает все яснее, яснее, пока не вспомнит окончательно, неотразимо, «незабвенно». Ничего не творит, не сочиняет нового, будущего, а только повторяет, вспоминает прошлое, вечное. Другие художники, глядя на свое создание, чувствуют: это прекрасно, потому что этого еще никогда не было. Лермонтов чувствует: это прекрасно, потому что это всегда было.
Весь жизненный опыт ничтожен перед опытом вечности. По сравнению с блаженством
Тех дней, когда в жилищах света
Блистал он, чистый херувим, —
все земные радости – «скучные песни»:
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
Маленький мальчик, который вчера играл в лошадки или солдатики, сегодня решает:
Пора уснуть последним сном;
Довольно в мире пожил я,
Обманут в жизни был во всем
И ненавидя, и любя.
Едва взглянув на мир, произносит свой безгневный и беспощадный приговор: «Жалок мир».Тут, конечно, и отзвук Байрона; но Байрон только вскрывает в нем то, что всегда было как данное, вечное.
Что говорит ребенок – повторяет взрослый:
...жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,
Такая пустая и глупая шутка.
Никаких особенных разочарований или утрат не произошло в жизни его между тем первым ребяческим лепетом и этим последним воплем отчаяния, в котором как бы зияет уже «тьма кромешная»; ничего нового не узнал, только вспомнил старое:
...им в жизни нет уроков,
Их чувствам повторяться не дано, —
говорит он о себе подобных.Знает все, что будет во времени, потому что знает все, что было в вечности.
...много было взору моему
Доступно и понятно потому,
Что узами земными я не связан
И вечностью и знанием наказан.
«Наказан» в жизни за преступление до жизни.
Как другие вспоминают прошлое, так он предчувствует или, вернее, тоже вспоминает будущее – словно снимает с него покровы, один за другим, – и оно просвечивает сквозь них, как пламя сквозь ткань. Кажется, во всемирной поэзии нечто единственное – это воспоминание будущего.
На шестнадцатом году жизни – первое видение смерти:
На месте казни, гордый, хоть презренный,
Я кончу жизнь мою.
Через год:
Я предузнал мой жребий, мой конец.
Кровавая меня могила ждет.
Через шесть лет:
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет.
И наконец, в 1841 году, в самый год смерти – «Сон» – видение такой ужасающей ясности, что секундант Лермонтова, кн. Васильчиков, описывая дуэль через 30 лет, употребляет те же слова, как Лермонтов. «В правом боку дымилась рана, а в левом сочилась кровь», – говорит кн. Васильчиков.
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь сочилася моя, —
говорит Лермонтов.Это «воплощение будущего», воспоминание прошлой вечности кидает на всю его жизнь чудесный и страшный отблеск: так иногда последний луч заката из-под нависших туч освещает вдруг небо и землю неестественным заревом.
VI
Христианское «не от мира сего» хотя и подобно, но лишь в противоположности своей подобно лермонтовскому:
Они не созданы для мира.
И мир был создан не для них.
В христианстве – движение от «сего мира» к тому, отсюда туда; у Лермонтова обратное движение – оттуда сюда.
Это сказывается не только во внутреннем духовном существе, но и во внешнем телесном облике.
«В наружности Лермонтова, – вспоминает И. С. Тургенев, – было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых плечах, возбуждала ощущение неприятное». «Почему-то внимание каждого и не знавшего его невольно на нем останавливалось». «Все от него отшатнулись, – рассказывает университетский товарищ Лермонтова, – а между тем что-то непонятное, таинственное влекло к нему». «Разговор его похож на то, как будто кто-нибудь скребет по стеклу».
«– Позвольте спросить вас, Лермонтов, какую это книгу вы читаете?
Он оторвался от чтения; как удар молнии, сверкнули его глаза – трудно было выдержать этот насквозь пронизывающий взгляд.
– Для чего вам знать?.. Содержание книги вас не может интересовать.
Как бы ужаленный, я бросился от него».
Одна светская женщина уверяет, что глаза Лермонтова «имели магнетическое влияние». Иногда те, на кого он смотрел пристально, должны были выходить в другую комнату, не будучи в состоянии вынести этот взгляд.
Если бы довести до конца это первое бессознательное впечатление, то пришлось бы его выразить так: в человеческом облике не совсем человек; существо иного порядка, иного измерения; точно метеор, заброшенный к нам из каких-то неведомых пространств.
Как метеор, игрой судьбы случайной
Он пролетел грозою между нас.
Кажется, он сам если не осознавал ясно, то более или менее смутно чувствовал в себе это «не совсем человеческое», чудесное или чудовищное, что надо скрывать от людей, потому что этого люди никогда не прощают.
Отсюда – бесконечная замкнутость, отчужденность от людей, то, что кажется «гордыней» и «злобою». Он мстит миру за то, что сам не от мира сего; мстит людям за то, что сам «не совсем человек». «И никого-то он не любит», – жаловались на него бабушке. Бесконечная сила отталкивания: «Как бы ужаленный, я бросился от него». Точно заряженная лейденская банка: кто ни прикоснется, отскакивает.
Отсюда и то, что кажется «лживостью». «Лермонтов всегда и со всеми лжет». Лжет, чтобы не узнали о нем страшную истину.
Звери слышат человеческий запах. Так люди слышат в Лермонтове запах иной породы. Одни, особенно женщины, по первобытному греху любопытства, влекутся к нему, видят в нем «демона», как тогда говорили, или, как теперь говорят, «сверхчеловека»; другие отходят от него с отвращением и ужасом: «ядовитая гадина», «антихрист»; или накидываются с яростью, чтобы загрызть, как собаки загрызают волка за то, что от него несобачий запах.
Отсюда, наконец, и то, что кажется в нем «пошлостью». Обыкновенного тщеславия, желания быть не как все, у Лермонтова не было, потому что в этом смысле ему и желать было нечего; скорее могло у него быть обратное тщеславие – желание быть как все.
«Ведь я страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм, – говорит черт Ивану Карамазову. – Тут у вас все очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас все какие-то неопределенные уравнения... Я здесь все ваши привычки принимаю: я в баню торговую полюбил ходить... люблю с попами и купцами париться... Моя мечта это – воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху».
Все пошлости Лермонтова – разврат «Маешки» в школе гвардейских подпрапорщиков, «свинство», хулиганство с женщинами – не что иное, как бегство от «фантастического», от «неопределенных уравнений», безумное желание «воплотиться окончательно в семипудовую купчиху».
И когда люди, наконец, решают: «Да это вовсе не великий, а самый обыкновенный человек», – он рад, этого-то ему и нужно: слава Богу, поверили, что как все, точь-в-точь как все! Удалось-таки втиснуть четвертое измерение в третье, «забыть незабвенное», «попариться» и согреться хоть чуточку в «торговой бане» от леденящего холода междупланетных пространств!
Это извращение, может быть, гораздо худшее зло, чем обыкновенная человеческая пошлость; но не надо забывать, что зло это иного порядка, не следует смешивать эти два порядка, как делает Вл. Соловьев в своем суде над Лермонтовым.
До какой степени «пошлость» его только болезненный выверт, безумный надрыв, видно из того, с какой легкостью он сбрасывает ее, когда хочет.
Кажется, пропал человек, залез по уши в грязь, засел в ней «прочно, как лягушка в тине», так что и не выбраться. Но вот, после двух лет разврата и пошлости, стоило только приехать близкому человеку, другу любимой женщины, – и «двух страшных лет как не бывало».
С души как бремя скатится,
Сомненья далеко,
И верится, и плачется,
И так легко, легко...
Такое же мгновенное освобождение от пошлости происходит с ним после дуэли Пушкина. У Лермонтова явилась мысль вызвать убийцу. Когда лучший друг Лермонтова, Столыпин, заметил шутя, что у него «слишком раздражены нервы», Лермонтов набросился на Столыпина чуть не с кулаками и закричал, чтоб он сию же минуту убирался, иначе он за себя не отвечает. «Mais il est fou а lier!»[96] – воскликнул Столыпин уходя.