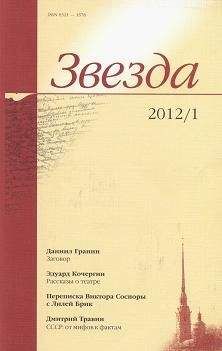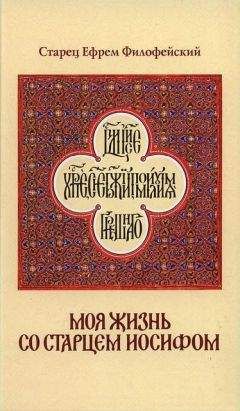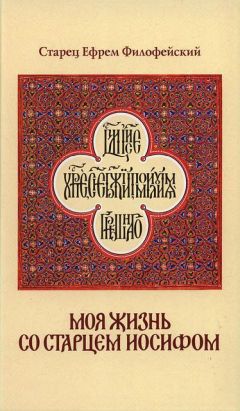Нина Дмитриева - Послание Чехова
Дымов как личность, может быть, и не очень похож на персонажей «Воров», но типологическое сходство несомненно. Оно и в безудержном своеволии, и в готовности «убить, что под руку попадется», и в лихом удальстве. Дымов еще не дозрел до Мерика, Чехов предрекает ему судьбу фельдшера Ергунова: сопьется или попадет в острог; «это лишний человек». Такой же «лишний человек» фельдшер – он спивается, и острога ему не миновать.
И все же отношение писателя и к Дымову, и к «ворам» не сплошь окрашено черной краской. Отвечая Суворину, порицавшему рассказ «Воры» «за объективность», Чехов, как бы оправдываясь, говорил: «Чтобы изобразить конокрадов в 700 строках, я все время должен говорить и думать в их тоне и чувствовать в их духе» (П., 4, 54). Знаменательное признание. Дело не в семистах строках, не в «технических» требованиях краткости. Чувствуя в духе своих героев, то есть познавая их изнутри, писатель открывает в них не одно только зло, а и нечто человеческое, пусть даже искаженное. Сам по себе порыв к воле, к освобождению от бесконечных «футляров», в которые затиснута человеческая жизнь, не только соблазнителен, но и оправдан, если не сопряжен с таким же бесконечным эгоизмом. (А эгоизм бывает и коллективный – сословный, партийный, классовый, когда мир разделяется на «наших» и «не-наших», и за «ненашими» человеческие права не признаются.)
С озорником Дымовым читателя примиряет то, что он способен, хотя бы мимолетными вспышками, чувствовать себя виноватым, стыдиться, просить прощения. А в «Ворах» есть персонаж, которого исподволь точит какой-то червь недовольства своей жизнью, – конокрад Калашников. Это мужик лет сорока, по виду степенный, рассудительный, богомольный, то и дело крестится, «никто бы не мог подумать, что это вор, бессердечный вор, обирающий бедняков» (С., 7, 318). Он принадлежит к тому слою преступного мира, который, как принято говорить, сращивается с денежным мешком. Отец и дядя Калашникова держат трактир в селе Богалёвке, промышляют и прямым воровством, и мошеннической перепродажей краденых лошадей. Богалёвка – сплошь воровское село, все о том знают, но богалёвских мужиков не трогают – они богаты и всегда могут откупиться.
Но, как ни странно, Калашников, сам отъявленный мошенник, презирает своих собратьев по ремеслу. Оказывается, у него есть свои понятия о чести. Фельдшер, желая к нему подольститься, говорит: «Молодцы у вас в Богалёвке!» К его удивлению, Калашников отвечает пренебрежительно: «Ну, нашел молодцов! Пьяницы только да воры». «Было время, да прошло» (С., 7, 316), – подтверждает и Мерик. О Мерике Калашников худого слова не говорит, признает его молодчиной, но Мерик пришлый, из Харькова, а местные, по мнению Калашникова, только позорят звание конокрадов. За ужином он пускается в воспоминания о прошлом, как он, да кривой Филя, которому сейчас семьдесят лет, а прежде его прозывали Шамилем, да Любкин отец, убитый ямщиками, да еще кто-то из старшего поколения собирались тут: «…какие люди, какие разговоры! Замечательные разговоры. Все благородно, сообразно… А как гуляли! Так гуляли, так гуляли!» (С., 7, 319)
Гулять, в понимании Калашникова, не значит напропалую пьянствовать. За столом и он, и Мерик пьют умеренно, напивается только фельдшер. Гулять – это вот что: кривой Филя и Любашин отец забрались раз ночью в стоянку конного полка, «угнали девять солдатских лошадей, самых каких получше, и часовых не испугались, и утром же цыгану Афоньке всех лошадей за двадцать целковых продали. Да! А нынешний норовит угнать коня у пьяного или сонного, да бога не побоится и у пьяного еще сапоги стащит, а потом жмется, едет с той лошадью верст за двести и потом торгуется на базаре, торгуется, как жид, пока его урядник не заберет, дурака. Не гулянье, а одна срамота! Плевый народишко, что говорить» (С., 7, 317).
Воспоминания Калашникова – вариации извечного «Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя». Сколько раз люди старшего поколения бранили младших за измельчание и отсутствие идеалов! Так и видится на месте Калашникова какой-нибудь идейный семидесятник, ругающий безыдейных восьмидесятников.
Идеал пожилого конокрада – идеал «благородных разбойников», какие больше не водятся. Он проецирует этот идеал на недавнее прошлое, многое, наверно, присочиняя; его прежние товарищи рисуются ему в ореоле молодечества, отваги и даже презрения к торгу и наживе: уж они-то не унизились бы до кражи сапог у пьяного! Однако Калашников был в ту пору юнцом, а теперь он сам обирает бедняков, занимается мошенническими спекуляциями, и совесть его неспокойна. Его богомольность – непритворная, он надеется замолить грехи, боится ада; недаром спрашивает у фельдшера, существуют ли черти.
После ужина Калашников играет на балалайке, и этот нехитрый инструмент в его руках издает то веселые, залихватские звуки, то такие печальные, что хочется плакать. В первой публикации рассказа Калашников еще и поет – песню «Хуторок», проникнутую тоской одиночества, и доводит себя этим жалостным пением до слез. «Видимо, стыдясь своих слез, молча, ни на кого не глядя, он надел полушубок, взял в руки кнут и сказал угрюмо: ехать, одначе…» (С, 7, 577–578)
Перерабатывая рассказ, Чехов снял этот слишком чувствительный эпизод. В окончательной редакции уход Калашникова мотивирован иначе: он уходит сразу после страшного признания Мерика – значит, оно ему сильно не понравилось. Он ничего не говорит (и автор ничего не говорит за него), но уходит немедленно, простившись только с Любкой – с Мериком не прощается. Фельдшер выходит за ним, опасаясь, как бы он не уехал на его лошади. Нет, Калашников садится на свою малорослую лошаденку, увязающую в сугробе, а не на хорошую лошадь фельдшера (доктор дал ему самую лучшую). Значит, не хочет грабить пьяного, как делают «нынешние», как сделает полчаса спустя Мерик.
Мерик – тот никаких уколов совести не знает, никого не любит, готов на любое злодейство, лишь бы гулять по своей воле и гонять табуны. Но и у него есть своеобразное достоинство: он играет в открытую, не лжет. Трусливое лицемерие не в его характере. Это волк, который не рядится в овечью шкуру.
В этом рассказе, как и в других своих зрелых произведениях, Чехов не занимается «обличительством». Что же обличать конокрадов? – и так всем известно, что кража лошадей есть зло. Его художественная задача другая – исследование человеческой натуры с ее переливами света и тени. На тончайших нюансах, на косвенных приметах, подчас умышленно недоговаривая, строит Чехов характеристики своих героев. Только в редких случаях он осуждает их безоговорочно, бесповоротно. Чаще ему удается разглядеть слабо мерцающую искру добра даже в окаменелых душах.
Но для глубокого зондирования нужен зоркий беспристрастный взгляд, нужна твердая рука, как у хирурга, держащего скальпель. Рукой, дрожащей от волнения и наплыва чувств, хирург не может хорошо делать свою работу. Отсюда завет Чехова: «Садиться писать нужно только тогда, когда чувствуешь себя холодным как лед»[50]. Это он говорил Бунину, то же советовал молодым писателям. Л. Авиловой: «…старайтесь быть холоднее – это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуется рельефнее. А то у Вас и герои плачут, и Вы вздыхаете» (П., 5, 26). Ей же в другом письме: «Как-то писал я Вам, что надо быть равнодушным, когда пишешь жалостные рассказы. И Вы меня не поняли. Над рассказами можно и плакать, и стенать, можно страдать заодно со своими героями, но, полагаю, нужно это делать так, чтобы читатель не заметил. Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление» (П., 5, 58). Щепкиной-Куперник «Любите своих героев, но никогда не говорите об этом вслух»[51]. Горькому Чехов советовал «быть сдержаннее» (П., 8, 11). Куприну – «глядеть… как бы сверху вниз»[52].
Такой метод, вероятно, не универсален. Он не подходит для писателей-проповедников, писателей-моралистов. Великий Достоевский, великий Диккенс его бы не приняли. Но для Чехова это был один из важнейших художественных принципов. Его редкая способность перевоплощаться в героев, думать и чувствовать в их духе, соединялась со способностью дистанцироваться, охватывая беспристрастным взором картину человеческой комедии.
И вот здесь, думается, главная причина, по которой Чехов так восхищался «Таманью» Лермонтова, – не драмами его, не поэмами, не «Демоном», а прозой последних лет жизни поэта, в которой он «смотрит с холодным вниманьем вокруг». В «Тамани» особенно ощутим некий царственный холодок, приподнимающий писателя над событиями жизни, при всем пристальном к ним внимании, при всем вчувствовании в них. Вот почему Чехов так высоко оценивал этот рассказ, принимая его за образец для себя. Если, как говорил Достоевский, русские писатели вышли из «Шинели» Гоголя, то Чехов, по особенностям своей поэтики, вышел из лермонтовской «Тамани».
«ДУЭЛЬ»
В больших повестях Чехова 1890-х годов, тяготеющих к жанру романа, ставятся общезначимые вопросы человеческого бытия и вместе с тем щедро изображается быт во всей его конкретности; одно от другого неотделимо. В этих повестях немаловажную роль играет место действия – как бы камертон, по которому настраивается повествование. «Три года» – московская повесть, «Рассказ неизвестного человека» – петербургская, «Моя жизнь» – жизнь русской провинции. «Дуэль» – повесть кавказская. Ее обволакивает атмосфера Кавказа – обступающие громады гор, одурманивающий горячий воздух, внезапные шквалы. Именно на Кавказе, а не в Петербурге и не в Тульской губернии, конфликт главных героев – конфликт чисто «принципиальный», не имеющий ни политической, ни имущественной, ни любовной подкладки, – мог развиваться так взрывчато и разрешиться архаическим способом – дуэлью. Хотя это уже не тот воинственный Кавказ, как во времена Лермонтова: перед нами просто провинциальный приморский городок, где военные мало чем отличаются от чиновников, лениво тянущих свою лямку.