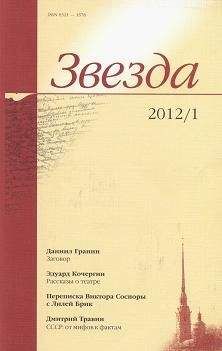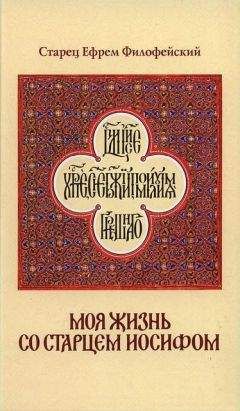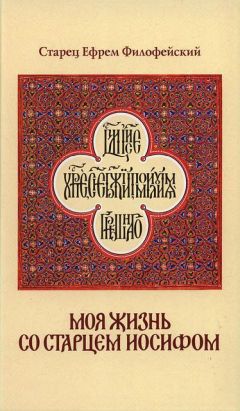Нина Дмитриева - Послание Чехова
Страсть «гулять по воле» пересиливает чувство хлебороба.
В роковое время Октябрьской революции и Гражданской войны стихийный порыв к воле выплеснулся с силой небывалой. Слишком многое тут слилось, чтобы спокойно рассуждать и однозначно судить: и восстание масс против вековой неволи, еще воспламененное годами мировой войны, и анархическая жажда разрушения, и утопические надежды на всемирное братство пролетариев, и опьянение вседозволенностью, и поразительное обесценение человеческой жизни… Разлад царил в поэтических откликах на события Октября – разлад, никак не зависящий от классовой принадлежности авторов. Для Блока то были «испепеляющие годы», для Бунина – «окаянные дни», для Брюсова – «торжественный день земли». Есенину виделась Русь обновленная, взмахнувшая крылами, но сам же он и признавался: «С того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий». Максимилиан Волошин видел Русь обесчещенную – «поддалась лихому подговору, отдалась разбойнику и вору» – но тут же: «Я ль в тебя посмею бросить камень?»[47]
Поэзия – чуткий уловитель музыки, звучащей в воздухе. «Слушайте музыку революции!»[48] – призывал Блок. Но воздух был «разорван ветром», и музыке недоставало гармонии. Создавая «Двенадцать», Блок, по его признанию, внутренним слухом ощущал только «большой шум вокруг»[49].
В стихах тех лет постоянно и у самых разных поэтов встречаются образы-символы – ветра, вьюги, пожара. Эти образы амбивалентны: огонь пожирающий – и огонь очистительный; ветер попутный, гонящий вперед – и ветер порывистый, буйный, как вестник первобытного хаоса, а то и просто хулиган, и метель – заметающая все пути, слепящая очи, обманывающая фантастическими призраками.
Был ли предтечею всей этой взвихренной поэтики горьковский «Буревестник»? Едва ли: слишком картинно-красиво выглядит у Горького «пророк победы». Реальная буря оказалась не столь радостной, и совсем не одни только трусливые пингвины и гагары ее не приняли. Кажется, и сам Алексей Максимович в первые годы революции как-то забыл о своем буревестнике.
В эти годы был забыт и Чехов, наглухо заклеенный ярлыком бытописателя серой жизни. Между тем именно ему, строгому реалисту, прозаику, никогда не писавшему стихов, дано было не только предчувствовать грядущие события, но и предвосхитить их образное преломление.
Мотив бешеного ветра и снежного бурана проходит сквозной темой в рассказе «Воры», хотя как будто и не связан прямо с основным действием – просто пейзажный фон. Но у Чехова описания природы и погоды, если они даны сколько-нибудь развернуто, никогда не сводятся к фону или аккомпанементу. Они отодвигаются на задний план, но в этом-то втором плане и сосредоточивается внутренний смысл, подтекст. Так и здесь. Вначале о разыгравшейся метели сообщается коротко и чисто информативно, как бы только для того, чтобы мотивировать вынужденный заезд фельдшера на постоялый двор. Затем, по ходу повествования, фельдшер трижды выходит из теплой горницы наружу – и это уже выглядит как некая драма в трех актах.
Первый раз «фельдшер вышел на двор поглядеть: как бы не уехал Калашников на его лошади. Метель все еще продолжалась. Белые облака, цепляясь своими длинными хвостами за бурьян и кусты, носились по двору, а по ту сторону забора, в поле, великаны в белых саванах с широкими рукавами, кружились и падали, и опять поднимались, чтобы махать руками и драться. А ветер-то, ветер! Голые березки и вишни, не вынося его грубых ласок, низко гнулись к земле и плакали: – Боже, за какой грех ты прикрепил нас к земле и не пускаешь на волю?» (С., 7, 320)
Во второй раз фельдшер выбегает за ворота, когда лошади его уже нет, на ней ускакал Мерик. «Он напрягал зрение и видел только, как летал снег и как снежинки явственно складывались в разные фигуры: то выглянет из потемок белая смеющаяся рожа мертвеца, то проскачет белый конь, а на нем амазонка в кисейном платье, то пролетит над головой вереница белых лебедей…» (С., 7, 323)
И в третий раз фельдшер выходит утром, дочиста обворованный, ошалевший от удара по голове, нанесенного Любкой. «Метель уж улеглась, и на дворе было тихо… Когда он вышел за ворота, белое поле представлялось мертвым и ни одной птицы не было на утреннем небе. По обе стороны дороги и далеко вдали синел мелкий лес» (С., 7, 324).
Для этих описаний Чехов одолжил фельдшеру свои глаза – свое зрение и прозрение художника. Он видит в клубах снега странные химерические образы, напоминающие не столько о «Бесах» Пушкина, сколько о «гофманиане» и «дьяволиаде» будущих поэтических поколений, которым довелось творить уже после Чехова, в пору, когда «закружилось все на свете». Издевательская ухмылка мертвеца соседствует с вереницей белых лебедей, белый конь с наездницей – не то из Апокалипсиса, не то из цирка. А великаны в саванах с широкими рукавами – что-то похожее на привидения Гойи, художника, которым в России стали интересоваться только в XX веке.
Захватывающая дух пляска призраков завершается зрелищем затихшей мертвой равнины, где нет ни одной птицы в небе. Здесь особенно чувствуется нечто пророческое: не тем ли кончаются стихийные «пассионарные» порывы?
Образ огня, пожара также присутствует в рассказе Чехова. Пожар обещан Мериком, в конце обещание сбывается. Показан пожар не вплотную, как в «Мужиках», где смысл его другой, а в отдалении, как багровое зарево на горизонте. Здесь огонь ассоциируется с кровью, которой предстоит пролиться. В первой редакции была фраза: «…И стало ему казаться, что то на небе не зарево, а алая кровь Любки…» (С., 7, 580) Чехов снял эту фразу, вероятно из-за ее слишком «лобовой» символичности.
Не допускаем ли мы натяжку, усматривая в героях «Воров» и во всей атмосфере рассказа предвидение революции? Может быть, это просто рассказ о разбойниках-конокрадах и ничего больше? Нет; в подтверждение можно сослаться на повесть «Степь», написанную двумя годами раньше. Об одном из ее персонажей, возчике Дымове, Чехов в письме Плещееву говорит следующее: «Такие натуры, как озорник Дымов, создаются жизнью не для раскола, не для бродяжничества, не для оседлого житья, а прямехонько для революции… Революции в России никогда не будет, и Дымов кончит тем, что сопьется или попадет в острог. Это лишний человек» (П., 2, 195).
Тогда Чехов думал, что революции в России никогда не будет. Он ошибался и ошибку свою со временем понял, ему не раз приходилось исправлять и корректировать свои суждения. Возможно, что ко времени написания «Воров» он продолжал не верить в возможность русской революции. Но это не мешало ему представлять, какой она могла бы быть, какие черты национальной психологии могут в ней проявиться, какой человеческий тип создан жизнью «прямехонько для революции». От того, каков этот тип, зависит отношение писателя к революции – все равно, произойдет ли она или останется в потенции. На роль предсказателя будущего Чехов никогда не претендовал – это не дело реалиста: он анализировал настоящее. Того, что называют революционной ситуацией, в России тогда действительно не было, никто не мог всерьез о ней помышлять после разгрома народовольцев. Но «человеческий материал», пригодный для революции, был, и художественная интуиция Чехова сказывалась в обостренном внимании к нему.
Что же представляет собою Дымов, созданный, по мысли Чехова, для революции? Он и впрямь озорник задирает своих товарищей, дико хохочет, шалит, кипящие в нем молодые силы ищут выхода – он гигант, силач, прямо-таки русский богатырь. Но озорство его злое, а веселье то и дело сменяется приступами какой-то тошнотной скуки. Он со смехом убивает ужа, тварь тихую и безвредную; многоопытный старик Пантелей говорит: «Дымов, известно, озорник, все убьет, что под руку попадется» (С., 7, 52). Придя в плохое настроение, Дымов срывает зло на возчике Емельяне, бывшем певчем, человеке слабом, болезненном и таком же безобидном, как уж, – грубо ругает его, выхватывает у него из рук ложку и забрасывает в кусты. Хотя ничего преступного, кроме убийства ужа, хватания за ноги купающихся и обиды Емельяну Дымов во время поездки не делает, девятилетний мальчик Егорушка с самого начала чувствует к нему все растущую ненависть и, выйдя из себя, кричит: «Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу! <…> Бейте его!» (С., 7, 82–83) Дымов злобно усмехается, но потом на него нападает что-то вроде раскаяния: поднявшись на телегу, где лежит Егорушка, он говорит: «На, бей!» Потом, проходя мимо Емельяна: «Скушно мне! Господи! А ты не обижайся, Емеля <…> Жизнь наша пропащая, лютая!» Он снова и снова повторяет: «Скушно мне!» (С., 7, 84), и по голосу слышно, что опять он начинает злиться.
Из разговоров возчиков у костра мы узнаем, что Дымов не бедняк, как другие, а сын зажиточного мужика, «жил в свое удовольствие, гулял и не знал горя, но едва ему минуло двадцать лет, как строгий, крутой отец, желая приучить его к делу и боясь, чтобы он дома не избаловался, стал посылать его в извоз как бобыля, работника» (С., 7, 64). Вот, значит, почему он считает свою жизнь пропащей. А прежде «жил в свое удовольствие» – гулял. Страсть к вольной гульбе, которая составляет вкус жизни для конокрадов, – она же одолевает и Дымова. Дымов не то чтобы вполне отрицательный, но самый неприятный из всех едущих по степи; остальные написаны с симпатией, не исключая даже скучно-делового, суховатого купца Кузьмичева – дяди Егорушки. Он хотя и видит в племяннике помеху, а все же заботится о нем и делает для него все, что нужно, у него есть чувство долга перед другими, которое, по-видимому, отсутствует у Дымова. Особенно же выигрывает по сравнению с Дымовым простодушный отец Христофор, лучащийся неиссякаемой добротой, – один из самых светлых образов у Чехова.