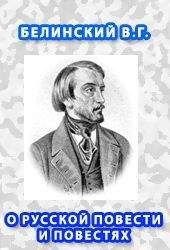Виссарион Белинский - О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Миргород»)
Я не буду решать, которому из этих двух видов гумора должно отдать преимущество. Вопрос о подобном превосходстве был бы так же нелеп, как вопрос о превосходстве оды над элегиею, романа над драмою, ибо изящное всегда равно самому себе, в каких бы видах ни проявлялось. Есть вещи, столь гадкие, что стоит только показать их в собственном их виде или назвать их собственным их именем, чтобы возбудить к ним отвращение; но есть еще вещи, которые, при всем своем существенном безобразии, обманывают блеском наружности. Есть ничтожество грубое, низкое, нагое, неприкрытое, грязное, вонючее, в лохмотьях; есть еще ничтожество гордое, самодовольное, пышное, великолепное, приводящее в сомнение об истинном благе самую чистую, самую пылкую душу, ничтожество, ездящее в карете, покрытое золотом, умно говорящее, вежливо кланяющееся, так что вы уничтожены перед ним, что вы готовы подумать, что оно-то есть истинное величие, что оно-то знает цель жизни и что вы-то обманываетесь, вы-то гоняетесь за призраками. Для того и другого рода ничтожества нужен свой, особенный бич, бич крепкий, ибо то и другое ничтожество покрыто тройною бронею. Для того и другого рода ничтожества нужна своя Немезида, ибо надобно же, чтобы люди иногда просыпались от своего бессмысленного усыпления и вспоминали о своем человеческом достоинстве; ибо надобно же, чтобы гром иногда раздавался над их головами и напоминал им о их творце; ибо надобно же, чтобы, за пиршественным столом, посреди остатков безумной роскоши, среди утех беснующейся масленицы, унылый и торжественный звук колокола возмущал внезапно их безумное упоение и напоминал о храме божием, куда всякий должен предстать с раскаянием в сердце, с гимном на устах!..
Г-н Гоголь сделался известным своими «Вечерами на хуторе». Это были поэтические очерки Малороссии, очерки, полные и жизни и очарования. Все, что может иметь природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов обольстительного, все, что народ может иметь оригинального, типического, все это радужными цветами блестит в этих первых поэтических грезах г. Гоголя. Это была поэзия юная, свежая, благоуханная, роскошная, упоительная, как поцелуй любви… Читайте вы его «Майскую ночь», читайте ее в зимний вечер у пылающего камелька, и вы забудете о зиме с ее морозами и метелями; вам будет чудиться эта светлая, прозрачная ночь благословенного юга, полная чудес и тайн; вам будет чудиться эта юная, бледная красавица, жертва ненависти злой мачехи, это оставленное жилище с Одним растворенным окном, это пустынное озеро, на тихих водах которого играют лучи месяца, на зеленых берегах которого пляшут вереницы бесплотных красавиц… Это впечатление очень похоже на то, которое производит на воображение «Сон в летнюю ночь» Шекспира. «Ночь пред Рождеством Христовым» есть целая, полная картина домашней жизни народа, его маленьких радостей, его маленьких горестей, словом, тут вся поэзия его жизни. «Страшная месть» составляет теперь pendant[11] к «Тарасу Бульбе», и обе эти огромные картины показывают, до чего может возвышаться талант г. Гоголя. Но я никогда бы не кончил, если бы стал разбирать «Вечера на хуторе»! «Арабески» и «Миргород» носят на себе все признаки зреющего таланта. В них меньше этого упоения, этого лирического разгула, но больше глубины и верности в изображении жизни. Сверх того, он здесь расширил свою сцену действия и, не оставляя своей любимой, своей прекрасной, своей ненаглядной Малороссии, пошел искать поэзии в нравах среднего сословия в России. И, боже мой, какую глубокую и могучую поэзию нашел он тут! Мы, москали, и не подозревали ее!.. «Невский проспект» есть создание столь же глубокое, сколько и очаровательное; это две полярные стороны одной и той же жизни, это высокое и смешное о бок друг другу. На одной стороне этой картины бедный художник, беспечный и простодушный, как дитя, замечает на Невском проспекте женщину-ангела, одно из тех дивных созданий, которые могло производить только его художническое воображение; он следит за нею, он дрожит, он не смеет дохнуть, ибо он еще не знает ее, но уже обожает ее, а всякое обожание робко и трепетно; он замечает ее благосклонную улыбку, и «кареты казались ему недвижны, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка и алебарда часового, вместе с золотыми словами и нарисованными ножницами, блестела, казалось, на самой реснице его глаз». Задыхаясь от упоения и трепетного предчувствия блаженства, он входит за нею в третий этаж большого дома, и что же представляется ему?.. Она, все так же прекрасная, очаровательная, она смотрит на него глупо, нагло, как бы говоря ему: «Ну! что же ты?..» Он бросается вон. Я не хочу пересказывать его сна, этого дивного, драгоценного перла нашей поэзии, второго и единственного, после сна Татьяны Пушкина: здесь г. Гоголь поэт в высочайшей степени. Кто читает эту повесть в первый раз, для того, в этом дивном сне, действительность и поэзия, реальное и фантастическое так тесно сливаются, что читатель изумляется, узнавши, что все это только сон. Представьте себе бедного, оборванного, запачканного художника, потерянного в толпе звезд, крестов и всякого рода советников: он толкается между ними, уничтожающими его своим блеском, он стремится к ней, и они беспрестанно разлучают его с ней, они, эти кресты и звезды, которые смотрят на нее без всякого упоения, без всякого трепета, как на свои золотые табакерки… И какое пробуждение после этого сна! и как можно жить после такого пробуждения? И он точно не живет более в действительности, он весь в грезах… Наконец, в его душе блеснул обманчивый, но радужный луч надежды: он решается на самоотвержение: он хочет принести ей в жертву, как Молоху{9}, даже честь свою… «А я только что теперь проснулась, меня привезли в семь часов утра, я была совсем пьяна», – это говорит ему она, все так же прекрасная, очаровательная… После этого можно ли было жить даже и в грезах?.. И нет художника, он сошел в темную могилу, никем не оплаканный, и мир не знал, какая высокая и ужасная драма была разыграна в этой грешной, страдальческой душе…
На другой стороне этой картины вы видите Пирогова и Шиллера, того Пирогова, о котором я уже говорил, того Шиллера, который хотел отрезать себе нос, чтобы избавиться от излишних расходов на табак; того Шиллера, который говорит с гордостью, что он швабский немец, а не русская свинья и что у него есть король в Германии; того Шиллера, который «еще с двадцатилетнего возраста, с того времени, которое русский живет на фуфу, измерил всю свою жизнь и положил себе, в течение 10 лет, составить капитал из 50 тысяч и у которого это было уже так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальника, нежели немец решится переменить свое слово»; наконец, того Шиллера, который «положил целовать жену свою в сутки не более двух раз, и чтобы как-нибудь не поцеловать лишний раз, никогда не клал перцу более одной ложечки в свой суп». Чего вам еще? Тут весь человек, вся история его жизни!.. А Пирогов?.. О, об нем об одном можно написать целую книгу!.. Вы помните его волокитство за глупою блондинкою, с которою он составляет такую отличную пару, его ссору и отношения с Шиллером; помните, какие ужасные побои претерпел он от флегматического Отелло, помните, каким негодованием, какою жаждою мести закипело сердце поручика, и помните, как скоро прошла его досада от съеденных кондитерских пирожков и прочтения «Пчелы»?.. Чудные пирожки! Чудная «Пчела»! Пискарев и Пирогов – какой контраст! Оба они начали, в один день, в один час, преследования своих красавиц, и как различны для обоих них были следствия этих преследований! О, какой смысл скрыт в этом контрасте! И какое действие производит этот контраст! Пискарев и Пирогов, один в могиле, другой доволен и счастлив, даже после неудачного волокитства и ужасных побоев!.. Да, господа, скучно на этом свете!..
«Портрет» есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде. Здесь его талант падает, но он и в самом падении остается талантом. Первой части этой повести невозможно читать без увлечения; даже, в самом деле, есть что-то ужасное, роковое, фантастическое в этом таинственном портрете, есть какая-то непобедимая прелесть, которая заставляет вас насильно смотреть на него, хотя вам это и страшно. Прибавьте к этому множество юмористических картин и очерков во вкусе г. Гоголя; вспомните квартального надзирателя, рассуждающего о живописи; потом эту мать, которая привела к Черткову свою дочь, чтобы снять с нее портрет, и которая бранит балы и восхищается природою, – и вы не откажете в достоинстве и этой повести. Но вторая ее часть решительно ничего не стоит: в ней совсем не видно г. Гоголя. Это явная приделка, в которой работал ум, а фантазия не принимала никакого участия.
Вообще надо сказать, фантастическое как-то не совсем дается г. Гоголю, и мы вполне согласны с мнением, г. Шевырева, который говорит, что «ужасное не может быть подробно: призрак тогда страшен, когда в нем есть какая-то неопределенность; если же вы в призраке умеете разглядеть слизистую пирамиду, с какими-то челюстями вместо ног и языком вверху, тут уж не будет ничего страшного, и ужасное переходит просто в уродливое». Но зато картины малороссийских нравов, описание бурсы (впрочем, немного напоминающее бурсу Нарежного), портреты бурсаков и особенно этого философа Хомы, философа не по одному классу семинарии, но философа по духу, по характеру, по взгляду на жизнь. О несравненный dominus[12] Хома! как ты велик в своем стоистическом равнодушии ко всему земному, кроме горелки! Ты натерпелся горя и страху, ты чуть не попался в когти к чертям, но ты все забываешь за широкою и глубокою ендовою, на дне которой схоронена твоя храбрость и твоя философия; ты, на вопрос о виденных тобою страстях, машешь рукою и говоришь: «Много на свете всякой дряни водится!»; у тебя половина головы поседела в одну ночь, а ты оттопываешь трепака, да так, что добрые люди, смотря на тебя, плюют и восклицают: «Вот это как долго танцует человек!» Пусть судит всякий как хочет, а по мне так философ Хома стоит философа Сковороды! Потом, помните ли вы невольное путешествие философа Хомы, помните ли попойку в шинке, этого Дороша, который, нагрузившись пенником, вдруг захотел узнать, непременно узнать, чему учат в бурсе (шуточное дело!), этого резонера, который божился, – что «все должно оставить так, как есть, что бог знает, как нужно», и, наконец, этого казака с седыми усами, который рыдал о том, что остался круглым сиротою… А эти поучительные беседы на кухне, где «обыкновенно говорилось обо всем, и о том, кто пошил себе новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел волка»? А суждения этих умных голов о чудесах в природе? А портрет пана сотника, и кто перечтет?.. Нет, несмотря на неудачу в фантастическом, эта повесть есть дивное создание. Но и фантастическое в ней слабо только в описании привидений, а чтения Хомы в церкви, восстание красавицы, явление Вия бесподобны.