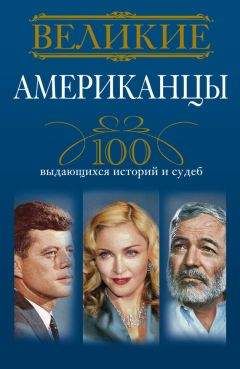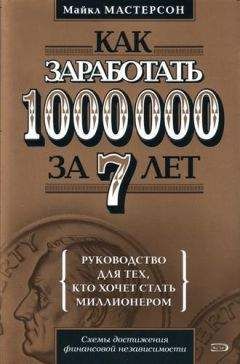Анатолий Луначарский - Том 7. Эстетика, литературная критика
Итак, задача художников концентрировать жизнь, сгущать ее, давать нам пережить возможно больше, не перенапрягая, однако, наших нервов, то есть на данное количество воспринимающей энергии дать гораздо больше ощущений, чем дает обыденная жизнь. Поэтому мы далеки от того, чтобы требовать от художника «заражения» непременно добрыми чувствами. Мы склонны думать, что художнику лучше всего предоставить нам моральные суждения, хотя мы, конечно, отнюдь не думаем, что тенденция неминуемо губит художественное произведение. На наш взгляд, самое главное в нем, чтобы оно заразило нас жизнью вообще и возбудило любовь и интерес к ней в самом широком смысле. Еще дальше мы от того, чтобы требовать от художника во что бы то ни стало «звуков сладких»; пусть он дает нам и диссонансы, пусть мучит нас, но не мукою зубной боли, нудной мукой, а идеализированным, не потрясающим страданием. Слушая Бетховена, мы подчас не менее сознаем, что такое безысходное страдание, чем при любом зрелище действительности, но мы наслаждаемся, потому что страдания эти, эти вопли и стоны, вздохи и рыдания, льются ритмическим потоком, проходят в живописных группах. Проклятие ли эта красота? Проклятие ли эта сила, вызывающая иногда спазму рыдания в горле? Нет, конечно. Но, предайся перед нами человек тому страстному отчаянию, которое сквозит в иных сонатах Бетховена, предайся он ему так же интенсивно, мы не вынесли бы зрелища. Поэзия же обладает даром изображать действительность во всем ее ужасе и безобразии: один факт страниц книги, рампы, голоса читающего уже ослабляет в должной степени эффект и делает его эстетическим. Такой взгляд на художника широк и свободен. Теперь мы за много миль от Осокина г. Вересаева, мы можем прислушаться к голосу Гёте:
Мне высшие права природа уделила…
Чем трогает сердца восторженный поэт?
Скажите, что ему стихии покоряет?
Не мощный ли аккорд, который вылетает
Из груди творческой, объемлющей весь свет?
Вот парки бледные движеньем равнодушным
Свивают нить свою веретеном послушным,
И все живущее несется и шумит —
И бесконечный мир в хаос нестройный слит.
Кто жизни выяснит неясное стремленье,
Кто стройно выразит нестройный жизни ход,
Хаос разрозненный к единству призовет
И согласит в аккорд торжественного пенья?
Кто возбуждает в вас кипучий пыл страстей?
Кто светлый путь любви цветами усыпает?
И песнью сладостно звучащею своей
Кто тихий блеск зари вечерней восхваляет?
Кто цену придает незначащим листам,
В прославленный венок вплетая листья эти?
Кто стережет Олимп и равен сам богам?
Мощь человечества, живущая в поэте![36]
Неужели Осокин не покраснел бы, слушая эти вдохновенные слова?
Неудачной бездарной попытки концентрировать жизнь не признаем и мы, но талант, как бы ни был он употреблен, по-видимому, всегда должен находить себе оправдание в наших глазах.
Так ли это?
Современных аморалистов упрекают то в отсутствии критерия для оценки человеческих поступков, то, наоборот, в нелогичности, когда они стремятся к такой оценке. Как аморализм Ницше, так и современная эстетика сливаются в одно целое, и общий принцип их — жизнь, полнота жизни. Это очень широко, но верно ли, что мы оправдываем таким образом всякую жизнь? Что мы должны только констатировать и не смеем судить? Вопрос этот я считаю крайне важным. Читатель позволит мне сделать необходимое отступление.
Человека, начинающего изучать историю религии, поражает одна странность: арийская ветвь, населившая Иран, называет своих добрых богов словом «агура», злых же духов именует «дэвами», наоборот, у арийцев Индостана «дэва» постепенно вытесняют «агура», а под этим названием надо понимать главным образом враждебные, низшие божества. Вообще по неведомым для нас причинам, о которых мы можем, однако, догадываться, обе великие ветви арийского племени развивали свои религиозные воззрения в странной противоположности друг другу.
Но одна коренная противоположность, касающаяся самой сущности миросозерцания, сделала из религии Зороастра и религиозных систем Индостана два полюса, между которыми размещаются все религиозные и моральные идеи человечества.
Иранцы представляли себе мир разделенным на два лагеря: лагерь добра и лагерь зла. Это понятно и естественно, в природе одни силы помогают людям, в частности иранцам, другие враждебны им. Добро — это земледельческий культурный Иран, это здоровье, радость жизни, труд, цветущие поля и сады, это правда и верность своему слову, это чистота, дружба, любовь. Перс любит жизнь, созидающий труд свой, и все силы природы, способствующие ему, он представляет себе в виде огромной иерархии трудолюбивых, чистых существ, помогающих человеку устроить рай на земле, а над всеми царит податель света и жизни, «великий живой бог» Агура-Мазда Ормузд. Зло — это дикий кочующий туран10, грабящий города и села иранцев, это болезнь и смерть, печали и невзгоды, слепота и разнузданность, песчаные пустыни, ложь и вероломство, это грязь, вражда и ненависть. Сила зла собрана в грозную армию злых людей, злых животных, злых духов, а над ними царит разрушитель, отрицатель, великий лжец и отец тьмы Агра-Майнью-Ариман.
Центром всего бытия, по представлению Ирана, является борьба, борьба человека со стихиями, культуры с дикостью. Каков конечный идеал Ирана, это он выразил в своей эсхатологии, в книге Бундегеш;11 здесь не место распространяться о ней. Она любвеобильна. Не только грешные люди, в противоположность христианству, обещающему им вечную муку, получат полное прощение и равную долю с армией праведников-победителей, даже все злое, сами духи зла получат полное прощение, и жизнь, полная и радостная, легкая и блаженная, обнимет весь бесконечный мир своим бесконечным сиянием. А Ариман? Но ведь он — ничто, его бытие есть отрицание бытия: он исчезнет в этих лучах света и перестанет быть; а с ним отпадает всякое ограничение жизни, все злое, в каждом существе останется то положительное, живое, чем оно, хотя бы и злой дух, отличалось от Аримана, этого отрицательного полюса мироздания.
В других терминах, но именно так представляют себе и задачи жизни, и религиозную грезу свою позитивисты всех времен.
Но Ариман, великое ничто, постепенно был возведен в сан величайшего бога и цель бытия глубокомысленным, но пассивным Индостаном. Сначала он появился в форме брамана, амтмана12, в форме «Нечто», лишенного всех предикатов: признаки, свойства — это мираж, оболочка, все есть — амтман, все есть бытие, которое на деле неподвижно, бесстрастно. В призрачной оболочке лежат цели суетного счастия с их неминуемым разочарованием и вся тяжесть непомерных страданий бытия: надо подняться над призраками — качествами, понять, что «я» и «мир», все вокруг — Единое. Тогда-то погрузишься в безразличие. Но такое беспредикатное нечто есть Ничто. И Будда смело заменил амтман Нирваной[37]. Ариман раскрыл свои объятия, и Восток, предводительствуемый мудрецом из дома Сакия, потек к воротам вечного покоя, вечного Ничто.
Для больной надорванной жизни погружение в ничто, постепенное замирание может быть целью, смерть может противополагаться жизни как нечто прекрасное. Эстетика Шопенгауэра есть нечто глубоко парадоксальное: по его мнению, искусство тем выше, чем сильнее отрицает оно жизнь13. Ариман редко в ком имел такого талантливого агента, как в Артуре Шопенгауэре. И тот факт, что эстетика жизнеотрицания могла найти в искусстве свою градацию эстетического совершенства и свои шедевры, с ясностью показывает нам, что целая плеяда художников поддавалась эстетическому пессимизму. Присмотримся поближе к искусству, отрицающему жизнь. У него всегда три основных приема:
1. Изображать земную жизнь как можно более безнадежной, как можно чаще повторять, что жизнь есть страдание, что человек жалок, что прогресс сказка и т. д. и т. д.
Утверждать это со всею силою искусства, сообщая все мрачное и серое, что только есть в жизни.
2. Но такого рода горькое искусство, отнимающее всякую надежду и не дающее взамен ровно ничего, прямо невозможно. Как субъективный момент, как ответ души на такую безотрадную картину мира художник выдвигает: а) смирение, b) сатанический протест, с) надежду на потусторонний мир.
Украшение безрадостной жизни самой по себе, с полным, однако, отрицанием возможности ее исправления, является поэтому вторым приемом пессимистического, аримановского, буддийского искусства. Как украшение принимается либо бесплодный, но напыщенный демонический протест, бледное чело, проклятия, трагические позы, гордое «безочарование», либо те «слезы и улыбки самой смиренной доброты», о которых с умилением распространялся Морис Метерлинк в декадентский период своего творчества14. Тут сострадание признается за самое сладостное утешение, потому что надо искать утешения.