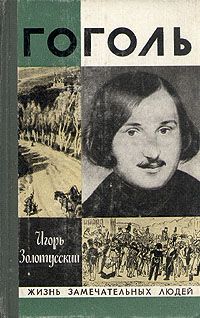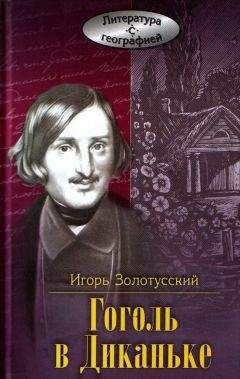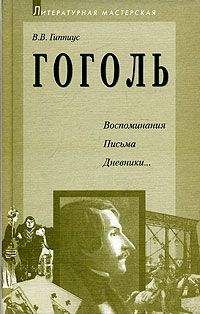Игорь Золотусский - Поэзия прозы
Сам же Чичиков стерт, как-то усредненно-обезличен: он «господин средней руки», и все в нем среднее: средний чин, средние лета, средний вес, средний голос. И лицо среднее — не то чтоб очень полное, но и полноватое, не тощее, но и не толстое, лицо как город, в который он въехал: город так себе, как все города. И трактир здесь как везде, и номер в гостинице, и кушанье, которое подают в трактире, и городской сад, и вид домов (серое с желтым), и сами «сановники» города как везде — во всяком губернском городе России. Никто и ничто здесь не выдается, не высовывается, не кричит о себе необыкновенной особенностью, крупною чертой: и лавки те же, и сидельцы в лавках, и самовары, и пряники, похожие на мыло, и мыло, похожее на пряники. Чичиков точно такой же, как город: в его лице ни отметинки, ущербинки, ни мушки, ни бородавки — круглое лицо, ровное лицо, и пахнет Чичиков не своим незаменимым запахом, как Петрушка, а запахом французского мыла, голландских рубашек и душистой водой — бог знает чем, только не человеком.
Но вот доезжает наш герой до дома Коробочки, въезжает в ворота измокший, грязный, как истинная барка, выброшенная на сухой берег волею Зевеса. Выспавшийся и обсохший, приятно забывшийся в толстых перинах, предложенных ему хозяйкой, он садится утром за стол, поедает ее блинцы, совершает сделку и готовится отправиться дальше. Мысленно подмигивая глядящему на него со стены Кутузову и смеясь над простодушной «дубиноголовой» Коробочкой, он готов покинуть ее дом, о существовании которого через минуту уже забудет, ибо что можно вспомнить о Коробочке?
Но тут автор останавливает его. Наступает неожиданная пауза в поэме, которая как будто растворяет двери повествования, и в него входит сам Гоголь. Идет лишь третья глава, а он уж здесь — уже не выдерживает его смех, и «грозная вьюга лирического вдохновения» возникает на горизонте. Ничего не произошло: просто настала тишина, просто герой окаменел и отодвинулся куда-то в глубь сцены, и вместо него заговорил автор. Дрогнуло сердце комика, и он сам взял слово. Взял его для вопроса, для странного и неуместного восклицания, которое совсем не идет к ситуация, не соответствует блаженному состоянию Чичикова, довольного покупкой и тем, что он так ловко отделался от лишних расспросов хозяйки.
Это не первое явление Гоголя в поэме. Первое было как бы мимоходом и вскользь; рассуждая о косынках, которые носят на шее холостяки, Гоголь оговаривается: «Бог их знает, я никогда не носил таких косынок». Позже эта тема холостяка, бессемейного путника, не имеющего постоянного пристанища на земле, разовьется в поэме, и уже не Чичиков станет олицетворением этого путника, а сам автор.
Пауза на пороге дома Коробочки — это пауза поэтическая, придающая поэме лад поэмы, переводящая комическое описание, сопряженное с холодом наблюдательности, в иное русло — в русло комически-героического или трагикомического эпоса, в который и превращаются с третьей главы «Мертвые души». Вот это отступление: «Но зачем так долго заниматься Коробочкой? Коробочка ли, Манилов ли, хозяйственная ли жизнь или нехозяйственная — мимо их! Не то на свете дивно устроено: веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда бог знает что взбредет в голову. Может быть, станешь даже думать: да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосягаемо огражденной стенами аристократического дома с благовонными чугунными лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами… Но мимо! мимо! зачем говорить об этом? Но зачем же среди недумающих, веселых, беспечных минут сама собою вдруг пронесется иная нудная струя? Еще смех не успел совершенно сбежать с лица, а уже стал другим среди тех же людей, и уже другим светом осветилось лицо…»
Кажется, это не отрывок из «Мертвых душ», а страница из «Тараса Бульбы». И мы не ошибемся, если предположим, что писались они, может быть, в одну ночь или, по крайней мере, друг за другом, ибо именно в эти дни приступил Гоголь к переделке своей поэмы о запорожцах. Мы вновь слышим прежнего Гоголя — Гоголя «Бульбы», «Старосветских помещиков» и «Записок сумасшедшего». Как будто оглянувшись на дом Коробочки, вспомнил он вдруг другую помещицу Пульхерию Ивановну и подумал: это она стоит на крыльце, она, оставшаяся без Афанасия Ивановича и ушедшая от этого в свои котлеты и шанежки, в пух и перо. И у нее были свои светлые минуты, была юность, была любовь…
Смех Гоголя разбивается об это горькое и сострадательнее «зачем?», которое он потом задаст почти каждому герою поэмы (Собакевичу, умершему прокурору, самому Чичикову) и которое отныне станет сопровождать его до самого конца. Эта пауза не отпадет сама собой, не выпадет из действия поэмы, а, надломив ее ритм, станет новым ритмом и интонацией повествования, новой чудной струей, вливающейся в охлажденные ее волны.
Отныне не половой будет поддерживать под руки Чичикова, а сам Гоголь возьмет на себя эти функции, правда, в переносном смысле — он не тело Павла Ивановича будет поддерживать, а разжигать в нем угасший дух. Останется ли его герой один на один с Собакевичем, он и о Собакевиче задумается, взглянет ли в глаза Плюшкину, как увидит мелькнувший в них на мгновение теплый луч. Заснет ли, укачиваемый бричкой, как приснится ему собственное детство, бедное на радости, и иным светом озарится лицо самого Чичикова.
Иная чудная струя, слившись со струей смеха, даст сплав, который есть сплав, присущий только Гоголю и, пожалуй, в чистом виде только «Мертвым душам», в которых более, чем где-либо, выразятся его отчаяние и его надежда. Рыцари, которых дамы города NN вышивают шерстью на подушках и носы у которых выходят «лестницею, а губы четвероугольником», рыцарь Чичиков, празднующий труса в сцене с Ноздревым, рыцарь-будочник, настигающий на ногте «зверя», — это верх смеха Гоголя над упованиями своей юности и романтизмом ушедшей эпохи. С грустью признается он: «…и на Руси начинают выводиться богатыри» — и тут же пытается вызвать их тени из прошлого, но перед ним не прошлое, а настоящее, а Чичиков не Бульба, не Остап и даже не Андрий, которых, если читатель помнит, он любовно называет в своей повести «рыцарями».
Богатыри появятся в поэме, но в списках мертвых, а не в списках живых, в буквальном смысле мертвых, которых уже нет на свете и которые лишь по ревизским сказкам числятся пока живыми. Любопытный разговор происходит между Чичиковым и Собакевичем. Собакевич расхваливает продаваемых им крестьян. «Но позвольте, — сказал наконец Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, — …зачем вы исчисляете все их качества? Ведь в них толку теперь нет никакого, ведь это все народ мертвый. Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица.
— Да, конечно, мертвые, — сказал Собакевич, — …впрочем и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? — мухи, а не люди.
— Да все же они существуют, а это ведь мечта.
— Ну нет, не мечта!.. нет, это не мечта!..»
Чичиков, которому положено от имени существенности подтрунивать над мечтой, пропустит эти слова Собакевича мимо ушей. Но потом он вспомнит их — вспомнит, перебеливая списки купленных им мертвых крестьян и представляя каждого из них поименно. И вновь из-за плеча Чичикова выглянет Гоголь. «Когда взглянул он потом на эти листики, на мужиков, которые, точно, были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то характер, и чрез то как будто бы самые мужики получали свой собственный характер… Все сии подробности придавали какой-то особенный вид свежести: казалось, как будто мужики еще вчера были живы. Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: „Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! что вы, сердечные мои, поделывали на веку своем? как перебивались?“».
Откуда это в «охлажденном» Чичикове? Откуда эти чисто русские, в сердцах сказанные восклицанья, в нем, всегда прячущемся за книжные обороты, за вытверженные, из «светского» обихода фразы, за стертый язык гостиных и канцелярий? «И глаза его, — продолжает Гоголь, — невольно остановились на одной фамилии. Это был известный Петр Савельев Неуважай-Корыто… „Мастер ли ты был, или просто мужик, и какою смертью тебя прибрало? в кабаке ли или середи дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз? Пробка Степан, плотник, трезвости примерной. А! вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь, что в гвардию годился бы! Чай, все губернии исходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба да на два сушеной рыбы, а в мошне, чай, притаскивал всякий раз домой целковиков по сту, а может, и государственную зашивал в холстяные штаны или затыкал в сапог, где тебя прибрало? Взмостился ли ты для большого прибытку под церковный купол, а может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись оттуда с перекладины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: „Эх, Ваня, угораздило тебя!“, а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место. — Максим Телятников, сапожник. Хе, сапожник! Пьян, как сапожник, говорит пословица. Знаю, знаю тебя, голубчик… и был ты чудо, а не сапожник… Григорий Доезжай-не-доедешь! Ты что был за человек? Извозом ли промышлял и, заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навеки от дому, от родной берлоги, и пошел тащиться с купцами на ярмарку. На дороге ли ты отдал душу богу, или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку, или пригляделись лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков, или, может быть и сам, лежа на полатях, думал, думал, да ни с того ни с другого заворотил в кабак, а потом прямо в прорубь, и поминай, как звали. Эх, русский народец! не любит умирать своей смертью! — А вы что, мои голубчики?“ — продолжал он, переводя глаза на бумажку, где были помечены беглые души Плюшкина: „… и где-то носят вас теперь ваши быстрые ноги?.. По тюрьмам ли сидите или пристали к другим господам и пашете землю? Еремей Карякин, Никита Волокита, сын его Антон Волокита — эти, и по прозвищу видно, что хорошие бегуны… Абакум Фыров! ты, брат, что? где, в каких местах шатаешься? Занесло ли тебя на Волгу, и взлюбил ты вольную жизнь, приставши к бурлакам?.. Тут Чичиков остановился и слегка задумался. Над чем он задумался? Задумался ли он над участью Абакума Фырова или задумался так, сам собою, как задумывается всякой русской, каких бы ни был лет, чина и состояния, когда замыслит об разгуле широкой жизни. И в самом деле, где теперь Фыров? Гуляет шумно и весело на хлебной пристани, порядившись с купцами. Цветы и ленты на шляпе, вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь с любовницами и женами, высокими, стройными, в монистах и лентах; хороводы, песни, кипит вся площадь, а носильщики между тем при криках, бранях и понуканьях, зацепляя крючком по девяти пудов себе на спину… валят кули с овсом и крупой, и далече виднеют по всей площади кучи наваленных в пирамиду, как ядра, мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в глубокие суда-суряки и не понесется гусем, вместе с весенними льдами, бесконечный флот. Там-то вы наработаетесь, бурлаки! и дружно, как прежде гуляли и бесились, приметесь за труд и пот, таща лямку под одну бесконечную, как Русь, песню!“».