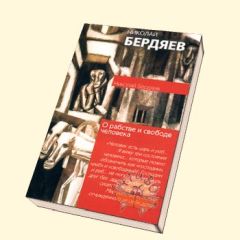Николай Ульянов - Скрипты: Сборник статей
Откуда у северянина-петербуржца такая любовь к «колониальной» экзотике? Причиной тому, конечно, не путешествие в Африку. Поехал он туда уже после того, как возлюбил ее по книгам, и поездка не изменила эстетического восприятия черного континента. Африка его так и осталась страной, увиденной не глазом путешественника (это не Африка Стэнли, Ливингстона, даже не Африка Маринетти), а навеянной чужими произведениями искусства. Свой морской и тропический мир Гумилев взял у Кольриджа, Стивенсона, Леконт де-Лиля, Киплинга. Он открыт и отвоеван ими в борьбе с хаосом; наш поэт получил его в наследство. Оттого он и выглядит у него картиннее, наряднее. Если слоны и ягуары Леконт де-Лиля стихийны и плотски убедительны, то в леопардах и жирафах Гумилева есть стилизация. Они «изысканные», почти салонные, ими прельщают скучающих петербургских дам. Не Африка их родина, а Монпарнас.
В Гумилеве чувствуется некая упоенность своим французским вкусом, всем своим европейским обликом. Так и кажется, что он простить себе не может своего русского происхождения. И так странно наблюдать упорное стремление обручить его с Россией.
У известной части эмиграции есть своя политграмота, не менее плоская и не менее пошлая, чем политграмота советская, только с другим знаком. Есть и свой «социальный заказ». Не этим ли объяснить постепенное обволакивание имени поэта грязноватой оболочкой дешевого политиканства? Он – и великий патриот, и рыцарь монархии, и чуть ли не столп православия, и певец подлинной России, не в пример большевизантствующему Блоку. И всё потому, что кончил дни в чекистском застенке – факт, по-видимому, глубоко посторонний его биографии и особенно его поэзии.
Существовали ли у Гумилева политические убеждения? Стихи его не дают на это ответа. Вернее всего, он принадлежал к тем русским молодым людям, которые своей [50] аполитичностью и своим абсентеизмом наводили Блока на такие печальные размышления. Первый политический лепет стали они издавать после того, как разгромили их усадьбы, расстреляли родных и близких, а то и самих посадили на «Гороховую 2». За что попал туда Гумилев? За убеждения? За контрреволюционную деятельность? Это тоже неизвестно. Быть может, – ни за что, как прочие миллионы жертв чекистского террора. Дело Таганцева до сих пор покрыто мраком. Говорят, оно было предтечей тех знаменитых процессов, что ошеломили мир лет 10-15 спустя, когда искусство фабриковать заговоры в недрах ГПУ достигло предельного совершенства. Только архивы МГБ могли бы пролить свет на тайну гибели Гумилева. Всё, что рассказывается о ней друзьями и близкими поэта, не далеко ушло от легенды. На протяжении сравнительно короткого времени одно и то же лицо уверяет, что никаким монархистом Гумилев не был, умер за поэзию. А потом поэзия отступает на последнее место, и Гумилев умирает, главным образом, за Россию и за монархию.
Если это и было так, то в творчестве его нет к этому ключа.
Та же Россия. Хоть он и утверждает, что ее золотое сердце «мерно бьется в груди моей», но читатель воспринимает этот стих, как «кимвал звенящий». Ведь можно по пальцам перечесть количество раз, когда она случайно мелькает на его страницах среди драконов, пагод и экзотических стран. Даже в бреду предсмертных стихов, упоминается она вскользь. Из трех мостов, по которым прогремел его «Заблудившийся трамвай», только один лежал через Неву, остальные – через Нил и через Сену. Пригрезившиеся ему русские образы представлены куполом Исакия, да простертой рукой медного всадника, остальное не наше, – «Индия духа», роща пальм, нищий старик, умерший в Бейруте, зеленная из сказок Гауфа, где «вместо капусты и вместо брюквы, мертвые головы продают».
Когда вспыхнула мировая война и все крупные наши поэты откликнулись на нее стихами, полными тревоги за судьбы России и человечества, когда даже Маяковский написал гуманистическую поэму «Война и Мир», – один Гумилев восторженно приветствовал пожар Европы. [51]
Барабаны гремите, трубы трубите, И знамена повсюду высоко взнесены. Со времен македонцев еще не бывало Такой грозовой и красивой войны. Кровь лиловая немцев, голубая французов, И славянская красная кровь…
Кроме Маринетти, давно воспевавшего войну как гигиену мира, едва ли кто другой в европейской литературе воспринял так величайшую из катастроф. О родине здесь ни слова. Святыни и устремления, во имя которых началась армаггедонская битва народов, не занимают поэта. Пафос сражения, величие зрелища, эстетика войны – вот истинная ценность события. Он не боец одного из станов, он дух, парящий надо всеми и всех подбодряющий. Лишь бы хорошо рубились и красивее проливали свою многоцветную кровь.
И когда в «Пятистопных Ямбах» он находит себе, наконец, место по одну из сторон фронта, мы так и не знаем, которая это сторона? О родине опять ни слова. Пошел он на войну не из любви к ней, а в силу внутренней опустошенности. Путешествуя по разным Левантам, прожег и проиграл лучшее в жизни и возжаждал боевых тревог как средства заполнить образовавшуюся пустоту.
И в реве человеческой толпы, В гуденье проезжающих орудий, В немолчном зове боевой трубы Я вдруг услышал песнь моей судьбы И побежал, куда бежали люди, Покорно повторяя: буди, буди.
Он чужой в этой идущей на битву толпе и сам себя ощущает как пришельца.
Солдаты громко пели, и слова Невнятны были, сердце их ловило: «Скорей вперед. Могила, так могила!» ……… Так сладко эта песнь лилась, маня, Что я пошел, и приняли меня, [52] И дали мне винтовку и коня, И поле, полное врагов могучих.
Так поступают в кондотьеры, но не так идут спасать родину.
Нигде не видим, чтобы он страдал за нее или мучительно переживал ее гибель. Ведь он был сыном «страшных лет России», на долю ему выпало быть современником мировой войны и революции. Но даже перед лицом этих циклопических сдвигов и потрясений, когда людям свойственно забывать о своей личной судьбе, Гумилев занят только собой. В тревоге и зловещих предчувствиях, проникших в его стихи, нет страха за Россию, за высшие ценности, но страх за самого себя. То ему мерещится пуля, «что его с землею разлучит», то палач «в красной рубахе, с лицом, как вымя», который срежет ему голову, то какое-то темное возмездие судьбы за всю неправедно проведенную жизнь.
И мы уже не верим, когда в одном прекрасном стихотворении он уверяет, будто его
Сердце будет пламенем палимо Вплоть до дня, когда взойдут ясны Стены нового Иерусалима На полях моей родной страны.
Такое горение, да еще с оттенком религиозности, ему не свойственно. С Богом у него не более благополучно, чем с родиной. Сказать, что он не верит в Бога – нельзя; он всячески страется примирить с ним свою «вселенскую душу».
«Всё в себе вмещает человек, Который любит мир и верит в Бога».
Но гораздо чаще звучат ноты глубокого разлада. Не так, по-видимому, просто совместить с Евангелием поэзию буйства жизни, хищности, конквистадорской удали и отчаянных дерзаний. «Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу», сказано в соборном послании Апостола Иакова. И поэт это чувствует. [53]
Вижу свет на горе Фаворе И безумно тоскую я, Что взлюбил я сушу и море, Весь дремотный сон бытия.
Кроткого, любящего Иисуса не встретить на его страницах; всюду грозный и могучий Саваоф – повелитель титанических сил, похожий на вавилонского Бэла-Мардука или на германского Одина. И серафимов он любит за их трубный глас, гремящий полет и за сходство с Валькириями. Но всё это больше дань эстетике. Если искать у него что-то похожее на религиозное мировоззрение, то это будет скорей – пантеизм, что-то близкое к религии Спинозы, Ницше, Дарвина. Разве не он звучит в этих стихах?
Веселы, нежданны и кровавы Радости, печали и забавы Дикой и пленительной земли.
Не Космосом ли именуется божество, которому поют эти строки? Это в его неисповедимых силах и бесконечных превращениях – тайна, мудрость и святость мира, в котором нет ни добра, ни зла.
Нет конца обетам и изменам, Нет конца веселым переменам, И отсталых подгоняют вновь Плетью боли голод и любовь.
Особенно хорошо это выражено в изумительных по силе и блеску стихах:
Освежив горячее тело Благовонной ночною тьмой, Вновь берётся земля за дело, Непонятное ей самой. Наливает зеленым соком Детски нежные стебли трав И багряным, дивно высоким Благородное сердце льва. [54] И всегда желая иного, На голодный и жаркий песок Проливает снова и снова И зеленый, и красный сок. С сотворенья мира стократы, Умирая, менялся прах, Этот камень рычал когда-то, Этот плющ парил в облаках. Убивая и воскрешая, Набухать вселенской душой, В этом воля земли святая, Непонятная ей самой.
Конечно, и в этих стихах не душа Гумилева, а только его эрудиция. Взяв свой мир из книг, он не мог не взять оттуда же и религию этого мира.
Сделалось обязательным писать о нем как о певце мужества и подвигов. Он и сам себя считал таковым. Подвиг для него ценность абсолютная, не зависящая от цели, которую преследует. Ему найдено почти религиозное оправдание. Так, всякая война для него – Божье дело.