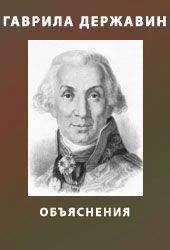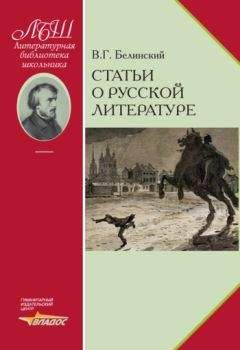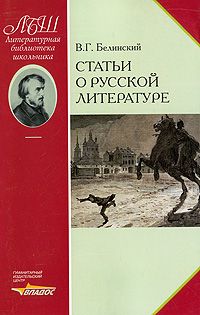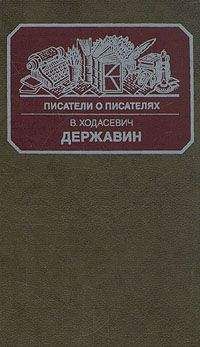Виссарион Белинский - Сочинения Державина
Этот портрет вельможи старого времени – дивная реставрация руины в первобытный вид здания. Это мог сделать только Пушкин. Кроме его художнической способности переноситься всюду и во все по воле фантазии своей, ему помогла и отдаленность его от того времени, представлявшегося ему в перспективе. Прошедшее всегда и виднее и понятнее настоящего. От Державина, как современника, нельзя и требовать такой мастерской картины русского XVIII века, который много разнился от европейского XVIII века. Эта разность верно схвачена Пушкиным в последних стихах первого отрывка —
. . . .И скромно ты внимал
За чашей медленной афею иль деисту,
Как любопытный скиф афинскому софисту.
Но Державин не мог стать наравне и с этим скифом: он относится к этому скифу, как тот скиф к афинскому софисту. Лишенный всякого образования, не зная французского языка, Державин не был слишком причастен ни нравственной порче, ни истинному прогрессу того времени и в сущности нисколько не понимал его. Хваля добро того времени, он не прозревал связи его со злом и, нападая на зло, не провидел связи его с добром.
С двух сторон отразился русский XVIII век в поэзии Державина: это со стороны наслаждения и пиров, и со стороны трагического ужаса при мысли о смерти, которая махнет косою – и
Где пиршеств раздавались клики,
Надгробные там воют лики…{15}
Державин любил воспевать «умеренность»; но его умеренность очень похожа на горацианскую, к которой всегда примешивалось фалернское… Бросим взгляд на его прекрасную оду «Приглашение к обеду».
Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят;{16}
В графинах вина, пунш, блистая
То льдом, то искрами манят;
С курильниц благовонья льются,
Плоды среди корзин смеются,
Не смеют слуги и дохнуть,
Тебя стола вкруг ожидая;
Хозяйка статная, младая,
Готова руку протянуть.
Приди, мой благодетель давний,
Творец чрез двадцать лет добра!
Приди – и дом хоть ненарядный,
Без резьбы, злата и сребра,
Мой посети: его богатство —
Приятный только вкус, опрятство,
И твердый мой, нельстивый нрав.
Приди от дел попрохладиться,
Поесть, попить, повеселиться,
Без вредных здравию приправ!
Как все дышит в этом стихотворении духом того времени и пир для милостивца, и умеренный стол, без вредных здравию приправ, но с золотою шекснинскою стерлядью, с винами, которые «то льдом, то искрами манят», с благовониями, которые льются с курильниц с плодами, которые смеются в корзинках, и особенно – с слугами, которые не смеют и дохнуть!.. Конечно, понятие об «умеренности» есть относительное понятие, – и в этом смысле сам Лукулл был умеренный человек. Нет, люди нашего времени искреннее: они любят и поесть и попить и за столом любят поболтать не об умеренности, а о роскоши. Впрочем, эта «умеренность» и для Державина существовала больше, как «пиитическое украшение для оды». Но вот, словно мимолетное облако печали пробегает в веселой оде мысль о смерти:
И знаю я, что век наш – тень;
Что лишь младенчество проводим,
Уже ко старости приходим,
И смерть к нам смотрит чрез забор.
Это мысль искренняя; но поэт в ней же и находит способ к утешению.
Увы! то как не умудриться,
Хоть раз цветами не увиться
И не оставить мрачный взор?
Затем опять грустное чувство:
Слыхал, слыхал я тайну эту,
Что иногда грустит и царь;
Ни ночь, ни день покоя нету,
Хотя им вся покойна тварь,
Хотя он громкой славой знатен.
Но ах! и трон всегда ль приятен
Тому, кто век свой в хлопотах?
Тут зрит обман, там зрит упадок:
Как бедный часовой тот жалок.
Который вечно на часах!
Но не бойтесь: грустное чувство не овладеет ходом оды, не окончит ее элегическим аккордом, – что так любит наше время: поэт опять находит повод к радости в том, что на минуту повергло его в унылое раздумье:
Итак, доколь еще ненастье
Не помрачает красных дней,
И приголубливает счастье
И гладит нас рукой своей;
Доколе не пришли морозы,
В саду благоухают розы.
Мы поспешим их обонять.
Так! будем жизнью наслаждаться,
И тем, чем можем утешаться,
По платью ноги протягать.
Заключение оды совершенно неожиданно, и в нем видна характеристическая черта того времени, непременно требовавшего, чтобы сочинение оканчивалось моралью. Поэт нашего времени кончил бы эту пьесу стихом: «по платью ноги протягать»; но Державин прибавляет:
А если ты, иль кто другие
Из званых милых мне гостей,
Чертоги предпочтя златые
И яства сахарны царей,
Ко мне не срядитесь откушать,
Извольте вы мой толк прослушать:
Блаженство не в лучах порфир,
Не в вкусе яств, не в неге слуха.
Но в здравьи и в спокойстве духа.
Умеренность есть лучший пир.
Ту же мысль находим мы во многих стихотворениях Державина; но с особенною резкостью высказалась она в оде «К первому соседу», одном из лучших произведений Державина.
Кого роскошными пирами,
На влажных невских островах,
Между тенистыми древами,
На мураве и на цветах,
В шатрах персидских, златошвенных,
Из глин китайских драгоценных,
Из венских чистых хрусталей,
Кого столь славно угощаешь
И для кого ты расточаешь
Сокровища казны твоей?
Гремит музыка; слышны хоры
Вкруг лакомых твоих столов,
Сластей и ананасов горы,
И множество других плодов
Прельщают чувства и питают;
Младые девы угощают,
Подносят вина чередой —
И алиатико с шампанским,
И пиво русское с британским,
И мозель с зельтерской водой.
В вертепе мраморном, прохладном,
В котором льется водоскат,
На ложе роз благоуханном,
Средь неги, лени и отрад,
Любовью распаленный страстной,
С младой, веселою, прекрасной
И с нежной нимфой ты сидишь:
Она поет, – ты страстью таешь,
То с ней в весельи утопаешь,
То, утомлен весельем, спишь.
Сколько в этих стихах одушевления и восторга, свидетельствующих о личном взгляде поэта на пиршественную жизнь такого рода! В этом виден дух русского XVIII века, когда великолепие, роскошь, прохлады, пиры, казалось, составляли цель и разгадку жизни. Со всеми своими благоразумными толками об «умеренности» Державин невольно, может быть, часто бессознательно, вдохновляется восторгом при изображении картин такой жизни, – и в этих картинах гораздо больше искренности и задушевности, чем в его философских и нравственных одах. Видно, что в первых говорит душа и сердце; а во вторых – резонерствующий холодный рассудок. И это очень естественно: поэт только тогда и искренен, а следовательно только тогда и вдохновенен, когда выражает непосредственно присущие душе его убеждения, корень которых растет в почве исторической общественности его времени. Но, как мы заметили прежде, – пиршественная жизнь была только одною стороною того времени: на другой его стороне вы всегда увидите грустное чувство от мысли, что нельзя же век пировать, что переворот колеса фортуны или беспощадная смерть положат же, рано или поздно, конец этой прекрасной жизни. И потому остальная половина этой прекрасной оды растворена грустным чувством, которое, однакоже, не только не вредит внутреннему единству оды, но в себе-то именно и заключает его причину, ибо оно, это грустное чувство, является необходимым следствием того весело восторженного праздничного чувства, которое высказалось в первой половине оды.
Ты спишь – и сон тебе мечтает,
Что ввек благополучен ты;
Что само небо рассыпает
Блаженства вкруг тебя цветы;
Что парка дней твоих не косит;
Что откуп вновь тебе приносит
Сибирски горы серебра,
И дождь златой к тебе лиется.
Блажен, кто поутру проснется
Так счастливым, как был вчера!
Блажен, кто может веселиться
Бесперерывно в жизни сей!
Но редкому пловцу случится
Безбедно плавать средь морей:
Там бурны дышат непогоды,
Горам подобно гонят воды
И с пеною песок мутят.
Петрополь сосны осеняли,
Но вихрем пораженны пали:
Теперь корнями вверх лежат.
Непостоянство – доля смертных;
В пременах вкуса – счастье их;
Среди утех своих несметных
Желаем мы утех иных.
Придут, придут часы те скучны,
Когда твои ланиты тучны
Престанут грации трепать;
И, может быть, с тобой в разлуке,
Твоя уж Пенелопа в скуке
Ковер не будет распускать.
Не будет, может быть, лелеять
Судьба уж более тебя,
И ветр благоприятный веять
В твой парус: береги себя!
В заключительных стихах оды Державин особенно верен духу своего времени:
Доколь текут часы златые
И не приспели скорби злые, —
Пей, ешь и веселись, сосед!
На свете жить нам время срочно;
Веселье то лишь непорочно,
Раскаянья за коим нет.
Чувство наслаждения жизнию принимало иногда у Державина характер необыкновенно приятный и грациозный, как в этом прелестном стихотворении – «Гостю», дышащем, кроме того, боярским бытом того времени: