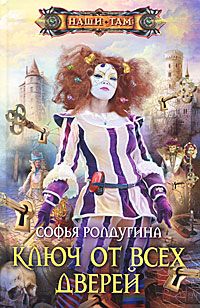Елизавета Драбкина - Кастальский ключ
Родовые имения, хотя и почти промотанные родителями. Еще какие-то владения. Вполне добротные городские квартиры.
Но когда думаешь о нем, испытываешь чувство, что он был бездомной птицей.
После семилетнего отсутствия Пушкин снова в Петербурге. Как много радостных воспоминаний! Как много горьких…
Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны веслы. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчанье правил грузный челн;
А я — беспечной веры полн,—
Пловцам я пел… Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный…
Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.
В Петербурге Пушкин будто бы возвращается к беспечным дням юности.
У него много литературно-издательских забот: надо протолкнуть «Цыган», отрывки из третьей главы «Онегина», «19 октября», несколько мелких стихотворений. Каждый шаг приходится согласовывать с Бенкендорфом, действующим от имени Николая («Я ничего не делаю без воле государя», — с типичной для его русского языка безграмотностью писал о себе Бенкендорф).
И вопросы жизни!
И мысли о поэзии, которая для него жизнь…
Нет нужды доказывать, что события на Сенатской площади и все, что с ними связано, оставили в душе Пушкина глубокий след. Иначе не могло и быть: слишком велики были события и слишком велик Пушкин.
«Глупец один не изменяется, — писал он в статье «Александр Радищев», — ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют».
Следует ли из этого, что жизнь Пушкина можно механически рассекать на две части — на ту, что была до 14 декабря 1825 года, и на ту, что после? Что, как утверждали некоторые, в дни, когда отмечалось столетие гибели Пушкина, после поражения декабристов Пушкин «уже не тот», «политическая реакция его напугала», «он становился все сдержаннее, умнее, консервативнее», тяготел «к светскому кругу», переходил на сторону старого мира и без всякой внутренней драмы не только за страх, но и за совесть был готов служить правительству своим пером. Даже женитьбу Пушкина на Наталье Гончаровой объясняли не его влюбленностью, а «ярким проявлением тяги к высшему обществу».
Это ложь, клевета на Пушкина. Написать такое можно лишь из пресмыкательства, продиктованного подлой трусостью. Не было «последекабрьского Пушкина», изменившего своим идеалам.
Была последекабрьская Россия с Николаем I, с Бенкендорфом, с голубыми жандармскими мундирами. Были свободолюбивые пушкинские строки, ломаемые на дыбе III отделения.
И были бремя поэта, судьба поэта, трагедия поэта, гибель поэта.
…О восстании на Сенатской площади Пушкин обычно пишет не прямо, а либо зашифрованно, либо прикрыто, приглушенно.
Но есть у него произведение, основные события которого не случайно происходят именно на Сенатской площади: «Медный всадник».
Над омраченным Петроградом…
Не будем воссоздавать картину петербургского наводнения 1824 года — нас интересует сейчас главный герой поэмы, Евгений.
Пушкин сообщает, что был он беден, где-то служил, «трудом он должен был себе доставить и независимость и честь».
Евгений — новое явление в жизни русского общества. Во Франции его назвали бы представителем четвертого сословия, в России он предвещал будущих разночинцев. Пушкин не напрасно дал ему только имя: этим подчеркнута собирательность образа.
Русская литература со свойственной ей чуткостью сразу уловила появление этой новой социальной прослойки и рассказала о Евгениях, Акакиях Акакиевичах, Макарах Девушкиных.
Но между пушкинским Евгением и остальными «маленькими людьми» пролегает глубокое различие: в то время как те покорно переживают свою трагедию и погибают в клетушках и подвалах, Евгений бросается наперерез гневной, ревущей Неве.
Охваченный безумием, он покидает дом, бродит по улицам, спит на пристани. И настает минута, когда он видит в темной вышине всадника с простертою рукою.
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?
Пред ним, державцем полумира, предстает Евгений. Ему он бросает в лицо: «Ужо́ тебе!»
«Ужо тебе!» Как родились эти слова? Представляют ли они лишь гениальное озарение поэта?
Нет! Провозглашенные народной толпой, подобные слова звучали уже здесь, рядом с памятником Петру, рядом с Сенатской площадью в великий для России день 14 декабря 1825 года.
Сложившийся стереотип рисует события на Сенатской площади только как восстание гвардейских полков. Мы видим неподвижное каре, выстроившееся у памятника Петру, выкаченные вперед пушки, офицеров, напрасно ожидающих команды к бою. Все происходит словно в вакууме, среди искрящихся под свежевыпавшим снегом пустынных улиц и площадей.
Воспоминания современников запечатлели иную картину.
Сенатор Оленин, который еще до начала событий наблюдал из окон Зимнего дворца за тем, что происходит на Дворцовой и Сенатской площадях, увидел, что они покрыты «волнующимся народом». По подсчетам адъютанта Милорадовича, там «было, конечно, более двадцати тысяч человек».
Декабрист Чижов в показаниях на следствии говорил, что на Сенатской он нашел «множество простого народа, с восклицаниями волнующегося на площади». Оставивший об этом дне свои воспоминания Фелькнер пишет о «густых массах народа», запрудивших площадь; подросток Арнольд, просидевший почти весь день в нише Адмиралтейства, свидетельствует, что «около забора строившегося храма теснилась весьма густая масса самого черного народа».
«Время уже было к полудню, — пишет Бутенев, — когда Петровская площадь от тысячей посторонних людей… сделалась почти невместимою». Декабрист Розен вспоминает про «густую толпу народа» и полагает, что «народу на площади было вдесятеро более солдат», говорит, что «народ со всех сторон хлынул на площадь».
Кто же были эти люди, которых авторы мемуаров называют «народ»? Мнение свидетелей единодушно: «простолюдины», «черная кость», «простонародье». Бутенев называет мастеровых и мелких чиновников, Розен — рабочих. В подметном письме, найденном в марте 1826 года на лестнице Зимнего дворца, доносчик пишет, что «подряд-печник Симаков во время бунту о 14 день многих работников — печников напоил и послал на площадь бунтовать».
Были там и крестьяне с обозов, пришедших в Петербург, и вольноотпущенные, и крепостные, живущие на оброке. Повстречавшись с Кюхельбекером во время его бегства, они подробно рассказывали ему о петербургских событиях. Были рабочие строившегося в то время Исаакиевского собора, студенты, кадеты, школяры.
«Подлая чернь была на стороне мятежников», — писала об этом императрица Александра Федоровна.
Как рассказывает Башуцкий, сплошная масса народу собралась на Исаакиевской площади лицом к памятнику Петру. Толпа находилась в состоянии непрерывного брожения. «Народ бурлил на площади», с которой «неслись буйные крики», — говорит Бутенев, толпа «орала и ревела». Когда на площади появился Николай, в него полетели камни и поленья.
Некоторые в толпе были вооружены косами, тесаками и пистолетами. Декабрист Завалишин рассказывает в своих «Записках», что народ требовал оружия и говорил: «Мы вам весь Петербург в полчаса вверх дном перевернем».
Схватки между толпой и правительственными отрядами были несоизмеримо острее, чем столкновение правительственных войск с неподвижно застывшими рядами солдат. Народ булыжником, палками, досками, поленьями отбил атаку кавалерии, грозил кулаками офицерам, стаскивал драгун с лошадей, срывал с них шинели и эполеты. А в последний момент, когда поражение восстания стало очевидным, люди из толпы надевали на восставших свою одежду, помогая им скрыться. Известный уже нам печник Симаков, как сообщал доносчик, «бунтовщикам давал своих лошадей ездить в полки, а после за город бунтовщиков вывозил в глиняных и песочных коробках под рогожами…»
Но поднявшие восстание участники тайного общества не были обрадованы поддержкой народа: они ее испугались.
«Ужо тебе!» Вот где Пушкин показал, насколько он видел дальше и глубже, чем декабристы.
Примечательная поправка!
В сохранившихся до наших дней черновиках «Медного всадника» совершенно разборчиво написано: «Уже тебе!» В последнем варианте текста литературное «уже» сменилось на простонародное «ужо».