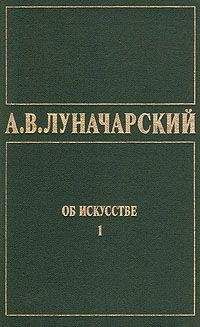Анатолий Луначарский - Том 1. Русская литература
Сперва это вольномыслие не казалось опасным. Ведь сама Екатерина кокетничала с либерализмом. Но так было, лишь покуда ей и дворянству либерализм этот не стал казаться гибельной угрозой. По мере приближения революции русские власти все круче относились к свободной мысли, еле теплившейся в России, а когда революция во Франции разразилась, императрица ответила на нее свирепыми репрессиями против своих недавних друзей.
Вольнодумный таможенный чиновник Радищев, уже раньше ратовавший за справедливость и имевший столкновения с непосредственным начальством, оказался на самом дурном счету.
Но это его не остановило. Наоборот, революция звала его своим гремящим голосом, и — верный сын и ученик ее — он ответил.
Свою знаменитую книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» он начал еще в 1785 году, но кончил и выпустил как раз в дни, когда бушевало во Франции революционное пламя, в 1790 году.3 Книга разошлась всего в ста экземплярах, но весь Петербург говорил о ней. Редко кто с восхищением: большинство читателей, за безграмотностью народа, принадлежало к врагам идей, которые проводил этот отщепенец своего класса, этот опасный перебежчик в лагерь угнетенного и слепого народа, видимо затеявший разбудить его.
Екатерина была права, когда она всполошилась. Екатерина была права, признав Радищева мятежником. Он был им, и в том — его немеркнущая слава.
Нет, то был не только гуманист, потрясенный зверствами крепостного права, предшественник кающегося дворянина, вроде либерального Тургенева, то был революционер с головы до ног, в сердце своем носивший эхо мятежного и победоносного Парижа. Не от милости царей ждал он спасения, а «от самого излишества угнетения»,4 то есть от восстания. В своей яркой книге, которую и сейчас читаешь с волнением, он не только, то бичуя, то рыдая, то издеваясь, рисует нам мрак помещичьей и чиновничьей России, он замахивается выше, он прямо грозит самодержавию, он зовет к борьбе с ним всяким оружием и радуется плахе для царей.
О помещиках он говорит:
«— Звери алчные, пиявицы ненасытные, что мы крестьянину оставляем: то, чего отнять не можем, воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередко от него не только дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. Закон воспрещает отъяти жизнь. Но разве мгновенно. Сколько способов отъяти ее у крестьянина постепенно! С одной стороны — почти всесилие; с другой — немощь беззащитная. Се жребий заклепанного в узы, се жребий заключенного в смрадной темнице, се жребий вола в ярме…»5
Так тоном библейского пророка клеймит Радищев свое сословие. В оде «К вольности» он разражается грозою:
О, дар небес благословенный,
Источник всех великих дел,
О вольность, вольность, дар бесценный,
Позволь, чтоб раб тебя воспел.
Исполни сердце твоим жаром,
В нем сильных мышц твоих ударом
В свет рабства тьму ты претвори,
Да Брут и Телль еще проснутся,
Седяй во власти да смятутся
От гласа твоего цари…
Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает,
В различных видах смерть летает,
Над гордою главой паря.
Ликуйте, скованы народы,
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя.
И нощи се завесу лживой
Со треском мощно разодрав,
Кичливой власти и строптивой
Огромный истукан поправ,
Сковав сторучна исполина,
Влечет его как гражданина
К престолу, где народ воссел…6
Печатая в открытой, легальной книге те отрывки из «Вольности», которые я привел, Радищев еще добавляет, что такое будущее ждет именно наше отечество.
Удивительно ли, что по появлении книги автор был арестован и заключен в Петропавловскую крепость?7 Удивительно ли, что обвинителем против него выступила сама императрица? Удивительно ли, что крамольник приговорен был к смертной казни?
Скорее удивительно, что он все-таки был помилован, и смерть заменена ему была десятилетней каторгой в Илимске.
Радищев вернулся лишь при Павле в 1796 году и поселен был в Саратовской губернии.8 Тело его было сломлено лишениями сибирской жизни. «Взглянув на меня, — пишет он, — всяк может сказать, колико старость предварила мои лета».9
Но вот воцарился Александр, в воздухе опять повеяло той вредоносной весной, которою самодержцы порой угощали народ. Она принесла с собой смерть великому человеку, душой пребывавшему верным своим идеям.
Вот что рассказывает об этом Пушкин:
«Император Александр приказал Радищеву изложить свои мысли касательно некоторых гражданских установлений. Бедный Радищев, увлеченный предметом, некогда близким к его умозрительным занятиям, вспомнил старину и в проекте, представленном начальству, предался прежним своим мечтам. Граф Завадовский удивился молодости его седин и сказал ему с дружеским упреком: „Эх, Александр Николаевич! Охота тебе пустословить по-прежнему, или мало тебе было Сибири?“
В этих словах Радищев увидел угрозу; огорченный и испуганный, он вернулся домой и… отравился».10
Убежденный, как никогда, в неисправимости самодержавия и чувствуя, как далек еще предсказанный им революционный рассвет, Радищев сказал: «Уйду я лучше от вас, звери, а заветы мои пребудут до лучших дней».
Эти дни пришли.
Победоносная трудовая русская революция ведет беспощадную войну с помещиками, и на ту часть интеллигенции, которая осмелилась стать ей поперек дороги, она наложила тяжелую руку трудовой диктатуры, но не случайно, что первый памятник, воздвигаемый ею, отдает честь помещику и интеллигенту. Ибо тут стоит перед вами образ помещика, отрясшего прах дворянский от ног, с ужасом отошедшего от них и народу принесшего сердце, полное святого гнева и горячей любви. Тут перед вами интеллигент, который знанием своим воспользовался, чтобы бросить яркий луч в ад старого порядка и осветить перед всеми его гнойные язвы.
Вы видите, товарищи: мы заставили для Радищева посторониться Зимний дворец, былое жилище царей. Вы видите: памятник поставлен в бреши, проломанной в ограде дворцового сада. Пусть эта брешь являет собою для вас знамение той двери, которую сломал народ богатырской рукой, прокладывая себе дорогу во дворцы. Памятнику первого пророка и мученика революции не стыдно будет стоять здесь, словно стражу у Зимнего дворца, ибо мы превращаем его во дворец народа: в его кухнях будем готовить для трудящихся пищу телесную, в его Эрмитаже, в его театре и великолепных залах обильно дадим пищу духовную.
Теперь смотрите на величественное и гордое, смелое, полное огня лицо нашего предвестника, как создал его скульптор Шервуд. В нем живет нечто смятенное, вы чувствуете, что бунт шевелится в сердце этого величаво откинувшего орлиную голову человека.
Радищев сам дал характеристику своей души. Вот что говорит он о людях, ему подобных:
«Люди сии, укрепив природные силы своя учением, устраняются от проложенных путей и вдаются в неизвестные и непреложные. Деятельность есть знаменующее их отличие, и в них-то сродное человеку беспокойство является ясно. Беспокойствие, произведшее все, что есть изящное, и все уродливое, касающееся обоюдно даже до пределов невозможного и непонятного, возродившее вольность и рабство, веселие и муку, покорившее стихии, родившее мечтание и истину, ад, рай, сатану и бога».11
Могучую душу носил в себе этот человек, но когда подбирал выражения для общей ее характеристики, то называл ее «умом изящным», и черты этого изящества сумел рядом с мощью и мятежностю придать его голове Шервуд.
Пока мы ставим памятник временный.
Наш вождь Владимир Ильич Ленин подал нам эту мысль:
«Ставьте, как можно скорее, хотя бы пока в непрочном материале, возможно больше памятников великим революционерам и тем мыслителям, поэтам, которых не хотела чтить буржуазия за свободу их мысли и прямоту их чувства. Пусть изваяния предшественников революции послужат краеугольными камнями в здании трудовой социалистической культуры».
В исполнение этого плана12 мы и ставим здесь первый памятник нашей серии монументальной пропаганды. Но памятник так прекрасен, что мы сейчас же приступим к работе для того, чтобы открыть его в бронзе на долгие века.
Товарищи! Пусть искра великого огня, который горел в сердце Радищева и отсвет которого ярко освещает вдохновенное лицо его, упадет в сердце каждому из вас, присутствующих на этом открытии, и в сердце всех тех многочисленных прохожих, которые в этом людном месте Петербурга остановятся перед бюстом и на минуту задумаются перед доблестным предком[17].