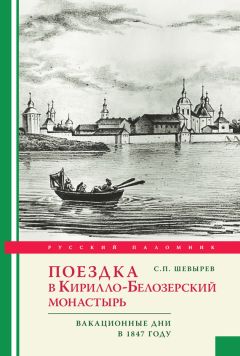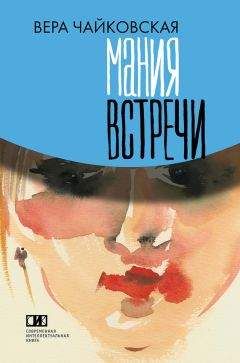Владимир Шулятиков - Новая сцена и новая драма

Обзор книги Владимир Шулятиков - Новая сцена и новая драма
Владимир Шулятиков
Новая сцена и новая драма
I
Вычурно разукрашенная ваза; она расколота пополам, но половины ее соединены и скреплены старой, перегнивающей веревкой. В вазе пустили побеги лесные фиалки. Нарядная, массивная античная колонна; она брошена на землю и разбита. Обломки колонны покрыты дикими полевыми цветами.
Лет десять тому назад подобного рода рисунки и виньетки неизменно красовались на заглавных листах и страницах западно-европейских художественных журналов, взявших под свое покровительство «новое искусство», которое тогда праздновало свой Sturm und Drang-periode. Это были боевые эмблемы штурм-унд-дренгеров. Помощью их теоретики нарождавшегося модернизма старались передать, в рельефной и наглядной форме, сущность «новых веяний». Старое искусство, говорили избранные ими эмблемы, представляло собой культ манерности, ненужных и вычурных орнаментов и прикрас, и оно умирает, противоречия духу современности: освобождение от всяких условностей, простота стиля и выполнения – вот основное требование, выставляемое молодым искусством, идущем ему на смену.
Это требование, действительно, являлось очень характерным для модернизма, действительно, проводило резкую демаркационную линию между «старым» и «новым». И на нем сходились довольно многочисленные секты и школы художников разных профессий, – художников, ставших под модернистское знамя. «Символы веры» всех этих сект и школ заключают в себе проповедь «естественности», полного отрешения от навязанных извне «правил», проповедь близости к «природе». Правда, образцы так называемого «декадентского» творчества затемняли зачастую в представлении широких слоев публики мотив «простоты», выдвинутый сторонниками «art nouveau». Но и те, кто передавал на полотне или бумаге, в звуках или на камне наиболее утонченные переживания души «современного человека», несомненно, вдохновлялись названным мотивом.
Свое наиболее решительное выражение последний получил в антитезе природы и цивилизации, в протесте против новейшего индустриального развития, в идеализации жизни социальных групп, знающих лишь примитивное хозяйство, лишь примитивные орудия и способы производства. И при этом, в качестве главного источника бедствий существующего строя выставлялась машина. Машина, доказывали модернисты, делает работу бездушной, убивает всякую поэзию и всякое изящество жизни. Проповедовалось возвращение к ремеслу, к ручному труду. Модным героем художественной литературы был объявлен романтически настроенный «аристократ духа», предающий анафеме крупные городские центры, с их богатством и их нищетой, с промышленными магнатами, с их демосом, с их пролетариатом, чувствующий себя «одиноким во всем мире», бегущий или стремящийся бежать в «пустыню», на лоно первобытной природы, в царство незатронутых культурой, идиллических народов.
Но принимать за чистую монету все подобного рода заявления модернистов, видеть в них resignation известной части буржуазии, отказ последней от пути, по которому она идет, от дальнейших экономических завоеваний – как это обычно делается – мы не имеем ни малейших оснований. Не симптомами упадка, вырождения современного капитализма и возврата к докапиталистической технике служат эти заявления, а, наоборот, симптомами роста и укрепления новейшей индустрии. Модернистская «простота» есть как раз детище проклинаемой модернистами машины, естественный плод ее поступательного развития, показатель ее триумфа.
Зависимость модернизма от современного машинного производства была отмечена давно, еще в дни модернистских «бурных стремлений». «Я думаю, что эти явления (явления переворота в искусстве) стоят в необходимой связи с развитием нашей современной железной машинной индустрии, – говорил некто Юлиус Лессинг, заведующий коллекциями берлинского музея художественной промышленности, в своем очерке «Das Moderne in der Kunst» – неминуемо обусловливающей пересмотр старой наличности технических и, следовательно, художественных форм». Лессинг указывал на роль материала, утилизируемого, напр., строительным искусством. «Деревянная постройка есть нечто весьма отличное от современной ей каменной постройки, кирпичный дом – от мраморного. И даже в мраморном храме какой либо страны различная тяжесть употребляемых в дело камней определяет различие форм, и мы замечаем различные стили». «Дерево допускало возможность устройства широких зал, но полной свободы распоряжаться местом достигли лишь тогда, когда железо сделалось живым фактором в области архитектуры, а, вместе с железом, машина, несказанно облегчившая обработку всех материалов». Железо и машина принесли с собой переоценку всех форм, известных архитектуре и производству предметов домашней обстановки. И те из старых форм, которые не отвечали новому материалу, новой машинной индустрии, были отвергнуты.
Вот почему массивные колонны в античном стиле были признаны отжившими свой век. Их существование связано с преобладанием камня в архитектурной практике. Новая индустрия приносит с собою легкий, тонкий железный столб. Но права гражданства последний получил не сразу. Новой технике пришлось выдерживать длительную борьбу со старой. Некоторое время железный столб считался парией. Пользуясь им для построек, архитектора тщательно старались скрыть следы его присутствия в комнатах и залах: его обшивали деревом или каким-нибудь другим материалом, придавали ему узаконенную господствовавшей до тех пор техникой внешность. Но победа принадлежала парию: он начал освобождаться от несвойственных ему маскарадных украшений, выступать в своем настоящем виде. И на языке модернистской эстетики приобретение им гражданства квалифицируется как торжество принципа естественности и простоты.
Можно было бы привести массу других, не менее поучительных и наглядных примеров, иллюстрирующих смену технических эпох. Возьмем ли мы мебель, посуду, лампы, отдельные части домовых построек, общий тип последних, архитектуру мостов, экипажей и т. д., везде мы видим одно и то же: везде – осязательные результаты победы железа и машинной техники, везде сложность форм и орнаментации сходит со сцены. Везде железо вытесняет камень и дерево или камень и дерево получают при обработке новые формы, настолько простых, что, по сравнению с традиционными, они кажутся полнейшим отрицанием всяких форм, всякого «искусства». Какие-нибудь кресла в стиле Людовика ХVІ или Рококо уступают место легким, напоминающим игрушечные стульям простейшей конструкции; массивные, изысканно-нарядные блюда и вазы заменяются металлическими, лишенными украшений; тяжеловесные, носившие на себе печать старых времен сохранявшие сложность орнаментов кронштейны и пьедесталы ламп не в состоянии конкурировать с почти «бесформенными» газовыми рожками и электрическими лампочками.
Торжество принципа естественности и простоты простирается далее. Переворот, произведенный железом и машиной, коснулся не только области прикладного искусства, которою ограничиваются изыскания теоретиков а la Юлиус Лессинг: искусство «высшего ранга», «чистое» искусство исключения в данном случае не составляет. И его новейшая история столь же тесно связана с историей новейшей индустрии. Машины и железо и тут произвели свое разрушительное действие, создали почву для аналогичных явлений.
На самом деле, в основе литературного модернизма лежит то же стремление к «упрощению» производства, – к утилизации возможно более простого «материала» и обработке его при помощи возможно более экономных средств. Формы, с которыми выступала «классическая» и «реалистическая» литература, были объявлены слишком вычурными, неестественными, условными. Провозглашалась необходимость коренного пересмотра техники. L'art poétique отождествляли с l'art naturel. «Когда человек потрясен какой-либо живой эмоцией, он не старается согласовать свои ощущения так, как это делает адвокат со своими доказательствами: они следуют друг за другом, сплетаются, то озаренные светом, позволяющим их лучше понять, завуалированные дымкой таинственности, которую человек предпочитает не раскрывать… Он не сочиняет декламаций; он не умеет сочетать свое горе или свою радость с красноречием, логикой или моралью: он просто чувствует и повинуется лишь естественному искусству, делающему наши эмоции симпатичными, во всех их искренних проявлениях. Так, поэт новатор, подобно ему, с презрением относится к слишком строгим правилам, стесняющим природу, сдерживающим порывы, не отвечающим всем формам жизни и мечтаний». [1]
Сложному реалистическому анализу, натуралистическим приемам описания противополагался лиризм непосредственного чувства. Проповедовалась война против всех искусственных, порожденных «культурой» «и «цивилизацией» наслоений и возврат к первобытной, народной поэзии. Изгонялись старые образы и метафоры, старые конструкции и обороты языка. В оппозиции к «презренным» правилам не щадили и грамматики: делались попытки обойтись и без нее; декретировалась полная свобода в пользовании и согласовании лексического материала. Идеальными образцами нового литературного творчества считались лирические стихотворения, составленные наполовину из восклицаний и междометий, наполовину из нескольких слов, повторяющихся в различных сочетаниях. Принцип естественности и простоты праздновал, поистине, решительный триумф!