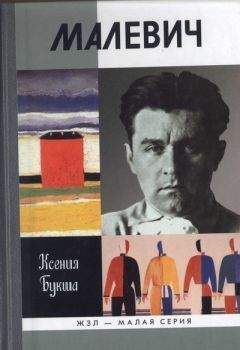Виссарион Белинский - Педант. Литературный тип

Обзор книги Виссарион Белинский - Педант. Литературный тип
Виссарион Григорьевич Белинский
Педант. Литературный тип
Всем ученым и образованным людям ведомо, что словесность, то есть литература, должна иметь целию – поучать, услаждая{1}. Покойный Мерзляков, великий знаток и учитель по части изящного, даже перевел (и прекрасно), кажется, из Тасса, чудесные стишки на этот счет;
Так врач болящего младенца ко устам
Несет фиал, сластьми упитан по краям:
Счастливец обольщен, пьет горькое целенье,
Обман ему дал жизнь, обман ему спасенье!{2}
Другими словами: литература есть искусство «золотить пилюли». Мораль – дело хорошее, спору нет, но и скучное, горькое – против чего опять никто спорить не будет; следовательно, надо же ее подслащать, рассычать, чтоб она достигала своей цели, то есть исправляла нравы, делала дурака умным, пьяницу трезвым, взяточника и. казнокрада – бескорыстным, бездарного писаку отучала от пера, ябедника и клеветника от ложных доносов…
Далее, всей просвещенной Европе известно, что «идеал есть не что иное, как собрание в одну фигуру разных черт, разбросанных в природе и действительности, – а отнюдь не сама действительность в возможности. Творчества тут не нужно: хотите изобразить красавицу – приглядывайтесь ко всем красавицам, которых имеете случай видеть; у одной срисуйте нос, у другой глаза, у третьей губы и т. д. – таким образом вы нарисуете красавицу, лучше которой уже нельзя и вообразить.
Я нахожу оба эти определения – «литературы» и «идеала» – чрезвычайно основательными и верю им безусловно. Особенно хороши они тем, что, во-первых, избавляют автора от необходимости иметь талант и фантазию, а во-вторых, уничтожают возможность писать такие изображения, в которых всякий, кто б ни был, мог узнать себя и вследствие этого жаловаться на личности…
Само собою разумеется, что этот взгляд на «литературу» и «идеалы» особенно удобен для «типов» вроде тех, которые теперь известны под именем «Наших»{3}. Гоголь сказал великую правду, что «у нас если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет»[1]{4}. Поэтому я нахожу гораздо приличнее и удобнее изображать такие типы, которых совсем нет в действительности, но которые были бы очень смешны: чрез это автор достигнет двух целей разом – доставит удовольствие своим читателям и никого не обидит.
Вот причины, которые заставили меня взяться за перо, которое давно уже было мною забыто, и попытаться сделать очерк одного из таких педантов, которых нет и быть не может, но которые могут существовать в праздном воображении человека, подобно мне имеющего свободное время для бумагомарания. Если мой педант не рассмешит вас и не доставит вам удовольствия – это обнаружит только мое неуменье и мою бесталантность. Я нарочно взял предмет для типа из такой сферы, которая у нас не представляет собою ни сословия, ни касты. Все эти мои оговорки проистекают из рокового предчувствия, что мой тип, вместо улыбки, возбудит в вас зевоту, вместо того чтоб рассмешить, усыпит вас; ибо – признаюсь вам – я не слишком-то полагаюсь на свой талант по части типов… «Так зачем же беретесь?» – скажете вы. Во-первых, хочется попробовать – «авось-либо» – великое слово для русского человека, который многое делает на «авось»; потом, неотвязчивые просьбы приятелей: «Вы-де знаете педантов и можете их изобразить; теперь-де типы в моде, наши в ходу; да кто вам сказал, что вы не можете? вы человек с дарованием»… Что будешь делать! Вы не знаете, что это за народ – мои приятели! Как пристанут – непременно уговорят; станут вам доказывать, что вы человек с дарованием, – право, сочините роман, хотя бы всю жизнь занимались математикою или сельским хозяйством… Ну, что ни будет – начинаю и, для успокоения крепко биющегося сердца, прошу вас еще заметить, что это не тип собственно, а скорее очерк или проект для типа…
Не воображайте себе моего педанта человеком старым, седым, беззубым, добрым и глупым, обожателем Хераскова, поклонником Сумарокова, последователем философии Баумейстера, пиитики Аполлоса и реторики г. Толмачева:{5} то педант доброго старого времени, педант-покойник, – мир праху его! Нет, я хочу вырезать вам силуэт педанта новейших времен, педанта-романтика, который так молод, что еще и не родился на свет; так вам знаком, что вы не поверите мне, чтоб его можно было найти и на луне, не только на земле. Но если уж болтать, то надо болтать обстоятельно, делая вид, что говоришь правду: в этом-то и все смешное моего типа… Мой педант – сын бедных, но благородных родителей. Не претендуя на богатство, он претендует на знатность рода{6}. Зовут моего педанта: Лиодор Ипполитович Картофелин{7}. Росту он весьма небольшого; в молодости был сухощав и тщедушен, а теперь довольно осанист и имеет брюшко, несколько четвероугольное и похожее на фолиант. Если б не досада на успехи других и на свои собственные неудачи уверить свет в своей гениальности, мой педант был бы так толст, что, при малости роста, походил бы на огромное in quarto[2]. Глаза у него серые, а волосы средние между русыми и рыжеватыми; на правой щеке бородавка с довольно длинною косичкою. Не помню, когда он родился; знаю, что в двадцатых годах текущего столетия, когда все журналы наши превратились в толки о классицизме и романтизме, Картофелин воспитывался в единственном пансионе губернского города{8}, в котором родился. Пансион содержался обрусевшим немцем – назовем его хоть Гофратом (я слышал, что все немцы – гофраты). Картофелин обнаруживал блестящие способности и был первым учеником по всем предметам, особенно по части российской словесности. Прилежание его было примерно; поведение соответствовало прилежанию. На торжественных актах он всегда говорил перед публикою речи и стихи{9}, в низших классах – сочинения своих учителей, а в высших – собственного изделия. Он первый подбил товарищей издавать журнал, разумеется, писанный, и каждую неделю по рукам мальчиков ходила чисто и аккуратно переписанная рукою Картофелина тетрадка, под названием «Северная Флора», № такой-то. Тетрадка почти вся состояла из сочинений Картофелина, или Безбрежина, как он называл себя на романтическом языке: тут были стихи, повести, критика и смесь{10}. Стихи и критика всегда были сочинения Лиодора Безбрежина: он объявил себя монополистом этих двух отделений. Г-н Гофрат чуть не плакал от умиления при виде успехов и всеобъемлющей деятельности светила своего пансиона: после каждого нового романтического стихотворения он брал Картофелина за уши, слегка приподнимал и нежно целовал в голову. Все ученики смотрели на него, как на гения; а учитель словесности, учившийся некогда по Бургию{11} и, следовательно, классик поневоле, даже побаивался его. Обремененный лаврами, мой Картофелин, сей внук (увы, не последний!) Василия Кирилловича Тредиаковского{12}, приехал в одну из столиц наших, – положим, в Москву. Не помню, что он делал несколько лет; но вот он является учителем «российской словесности»… Да, я непременно хочу сделать моего педанта учителем словесности: знаменитый дед всех педантов, Василий Кириллович Тредиаковский, был «профессором элоквенции, а паче всего хитростей пиитических»: одной этой причины уже слишком достаточно, чтоб я сделал моего педанта учителем «российской словесности»; сверх того, я убежден от всей души, что никакое звание так не идет к педанту, как звание учителя «российской словесности». Да, эта «российская словесность» преимущественно сподручна для шарлатанов и педантов: в нее можно класть, что угодно, и оттуда можно вынимать какие угодно теории, без опасения заплатить пошлину за болтовню. Я не хочу этим сказать, чтоб всякий учитель словесности был педант, – смешно и странно было бы питать такую исключительную и ложную мысль! Хорошие и достойные люди есть везде. Я хочу только сказать, что педант непременно должен быть учителем российской словесности.
Но мой педант не ограничился одним учительством: он, как и следовало ожидать, пустился в литературу. Все альманахи и журналы были наполнены его стихами{13}. Стихи были гладки, но тяжелы; полны мыслей, – но эти мысли отзывались чем-то напряженным, изысканным и диким, так что снутри походили на совершенную бессмыслицу – не только безмыслицу, а снаружи казались чрезвычайно глубокими и возвышенными{14}. Хотя толпа более видит снаружи, чем снутри, однако она не читала стихов Картофелина и осталась при одном уважении к ним. В то время один ловкий промышленник основал журнал, который, по его плану, должен был отличаться добросовестностью, ученостию и бескорыстием. Последняя статья касалась исключительно одних сотрудников; издатель же имел о ней свое понятие, которое не почитал нужным объяснять во всеуслышание{15}. Хитрый антрепренер тотчас смекнул, что за птица Картофелин. Он понял, что этот чернильный витязь готов трудиться до кровавого поту из одной «славы», из одного удовольствия каждый день пересчитывать, сколько новых строк прибавилось у него к числу уже написанных: чистое и благородное удовольствие всех педантов! О, педант похож в этом отношении на скрягу, который, отходя ко сну, пересчитывает, сколько рублей и копеек прибыло у него с утра… Журналист не ошибся: Картофелин оказался для него золотым человеком: он взвалил на себя всю работу, а разживу предоставил хозяину, который, впрочем, почел нужным, из приличия, уверить его, что небольшие выгоды от журнала он употребляет на издание полезных книг и вспомоществование бедным людям{16}, а сам питается бескорыстною любовию к науке и высокими мыслями. Добродушный педант поверил: он был столько же бескорыстен, честен и доверчив, сколько и опрометчив… И это нисколько не удивительно: ограниченность так часто соединяется с добродушною честностью – по крайней мере до тех пор, пока не раздразнят, умышленно или неумышленно, ее мелкого самолюбия…