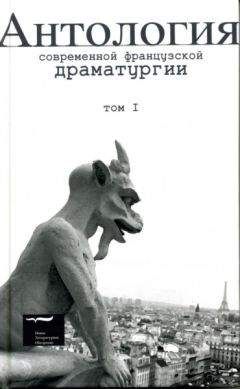Анна Мар - Есть ли предыстория у современной женской драматургии?

Обзор книги Анна Мар - Есть ли предыстория у современной женской драматургии?
Мария Михайлова
Есть ли предыстория у современной женской драматургии?
(Женщины-драматурги Серебряного века)
Драматургия последнего десятилетия поражает небывалым количеством имен женщин-драматургов. Не говоря уже о мэтрах (Л. Петрушевская, Н. Птушкина), чьи пьесы заняли прочное место в репертуаре театров, не меньший резонанс имеет драматургия молодых (И. Оболдиной, О. Мухиной и др.) И такое положение не вызывает сегодня изумления, кажется само собой разумеющимся. Однако следует напомнить, что так было не всегда, и драматургия оказалась творческой областью, которую женщина стала «осваивать» позднее других.
Показательным в этом отношении является Серебряный век, когда художественное сознание эпохи оказалось восприимчиво к идеям феминизма и все более отчетливо начала звучать мысль, что «двадцатый век, вероятно, будет назван в истории „женским веком“, веком пробуждения творческого самосознания женщины» [1] «Переворот в женском сознании» рельефнее всего выразился в литературе, о чем свидетельствует взлет женской поэзии (не случайно и В. Брюсов, и И. Анненский непосредственно обращаются к анализу женской поэзии [2], очевидные успехи в прозаическом роде (их удачно обобщила критик Е. Колтоновская в сборнике «Женские силуэты» [3]. И только драматургия не могла похвастаться появлением пьес, в которых открыто было бы заявлено о праве женщины давать «женские определения жизни», позволить себе говорить «от лица женщины» (О. Шапир).
Тем интереснее проследить, как происходило расшатывание мужского канона в драматургии, какие попытки (пусть и робкие) были предприняты писательницами на этом поприще. Мы оставляет без внимания пьесы-однодневки, пьесы текущего репертуара, созданные женщинами, имена которых практически не сохранила история драматургии. В докладе речь пойдет о произведениях, созданных писательницами, которые были, если можно так выразиться применительно к началу столетия, гендерно чувствительными, в чьих драматургических опытах затрагивались проблемы социокультурного осуществления половой роли, которые размышляли в той или иной мере о вариантах женской идентификации.
В этом отношении наиболее репрезентативными представляются работы Т. Щепкиной — Куперник, Тэффи, Л. Зиновьевой-Аннибал, А. Мирэ, Анны Мар. Если первые две были довольно успешными драматургами (их пьесы ставились и регулярно шли на сценических подмостках), то театральные опусы последних так и не увидели света рампы. Тем не менее необходимо рассмотреть их затерянные на страницах прозаических сборников (или как в случае с «Певучим ослом» Зиновьевой-Аннибал и «Когда тонут корабли» Анны Мар, сохранившимися только в архивах) пьесы как симптом появления в драматургии и нового ракурса в рассмотрении некоторых «вечных» конфликтов, и как «прорыв» к обнаружению гендерных составляющих женской драматургии.
Новаторство Т. Щепкиной — Куперник в данном отношении проявлялось главным образом в том, что большинство ее пьес («Одна из многих», «Барышня с фиалками», «Счастливая женщина») являло собой женский взгляд на положение творческой женщины в обществе, где ее творческие способности могут развиваться только «наперекор», «вразрез» с общепринятыми установлениями. Ее обвиняли в «бурном походе против мужского рода», поскольку она отстаивала возможность для женщины «жить своим трудом». Но трактовка женщины как самостоятельной личности связывалась у нее не столько с материальной независимостью (к началу XX века женщине в России оказались доступны многочисленные сферы трудовой деятельности, чего, кстати, были лишены женщины на Западе), сколько с «эмансипацией» от любовного чувства, определяющего, по мнению многих, подчинение женщины мужчине во все века. Демонстративно педалируется в названии ее пьесы «Счастливая женщина» возможность счастья для женщины, отказавшейся от всей атрибутики «женского», приписываемого ей положением в обществе, взаимоотношениями с окружающими людьми (подобострастие прислуги, модистки, шляпницы, массажистки). Героиня пьесы Лидия Юрьевна Стожарова в финале, обращаясь к своему поклоннику, произносит следующие слова: «Вы пришли к женщине. И вы говорили так, что если бы женщина была жива — она, может быть, затрепетала бы от ваших слов… Но — женщина умерла… Я теперь только мать. Измучившаяся, исстрадавшаяся мать! И больше ничего» [4]. В принципе «Счастливую женщину» можно рассмотреть как инвариацию горьковской «Матери». Только Щепкиной — Куперник прочерчивается рождение не борца, идейного сподвижника, какою становится Ниловна для своего сына (материнское, как известно, уводится Горьким в тень, а на первый план выдвигается духовно-идеологическое родство), а именно матери, которой только арест сына помогает разрушить гендерные стереотипы, предписывающие определенный тип поведения. И, если принять во внимание общественную среду, какую описала в своей пьесе драматург, — высший свет с его отдаленностью детей от родителей, неучастием матери в воспитании ребенка, ее погруженностью в чисто «женскую сферу деятельности»: благотворительные вечера, пожертвования, нескончаемые визиты — то ее вклад в изменение женской поведенческой модели «великосветской барыни» покажется весьма значительным.
Тем более что он осложнен дополнительной аргументацией в пользу выбора героиней новой роли и нового предназначения. Ведь при всей внешней независимости Лидии Юрьевны, которая обеспечивается высоким положением ее мужа, она остается только игрушкой в его руках, приманкой, которой он ловко пользуется, заставляя ее увлекать в расставленные сети поклонников, людей, нужных ему для его дел. Достаточно привести сцену «уговоров». Стожаров: «Я хотел просить тебя о маленькой услуге… Видишь ли… когда в прошлый раз Шверт обедал у нас, мы толковали об этой концессии… Ну, так вот, он немного забыл о ней. Мне самому не совсем удобно ему напомнить. Хорошо бы было, чтобы ты закинула словечко». А на возражения Лидии Юрьевны замечает: «Такой прелестной женщине, как ты… все ловко! Ты у меня умница. Ты это сумеешь. Скажи ему, что „муж интересуется…„…мне очень приятно, что моя жена нравится такому человеку, как Шверт…этим настроением Шверта будет неумно не воспользоваться. И если ты вспомнишь о концессии — в будущем обещаю тебе уплатить по какому угодно счету…“ [5].
Интересен также поворот в осмыслении проблемы феминизма, который предлагает в этой пьесе Щепкина-Куперник. В ней действует „феминистка“, молоденькая журналистка Бетси Тройницкая, достаточно циничная, чтобы заполучить интервью у недоступного политика, не брезгующая возможностью кратковременного флирта и даже связи, если он не идет во вред ее репутации. Для нее „феминизм“ всего лишь слово, которое можно ввернуть в разговоре, чтобы шокировать публику или возбудить любопытство к себе. Поэтому и может „мать“ напоследок „вразумлять“ обрядившуюся в мундир феминизма девушку: „В вас так еще много хорошего…Не засоряйте своей души, своей жизни пока не поздно…Береги свою душу“ [6]. И это не опровержение феминизма, а обнаружение его истинной сути.
Важен и вклад Тэффи-драматурга в процесс „расшатывания“ традиционных гендерных ролей, что она проделывает с присущим ей изяществом, в юмористическом ключе. В ее одноактной пьесе „Счастливая любовь“ [7] обыгрывается стереотипное восприятие женщины и мужчины друг друга, при котором они оказываются как бы идентичны и взаимно обесценены: мужская ветренность и легкомыслие выглядят ничем не лучше поверхностности и пустоты женщины. Диалог Надежды Николаевны и Молоткова — это и свидетельство иллюзорности представлений, мифологем, в кругу которых вращаются мужчины и женщины, и доказательство того, что они не умеют, да и не хотят слушать друг друга, довольствуясь самым общим „абрисом“ собеседника.
Гораздо серьезнее драматургический опыт Л. Зиновьевой-Аннибал, проделавшей за три года путь от „иллюстратора“ идей своего мужа, поэта-символиста Вяч. Иванова, что она с прилежностью влюбленной ученицы осуществила в драме „Кольца“ (1904), заинтересовавшей в свое время В. Мейерхольда, до откровенного вызова всем ивановским построениям, который она бросила в фарсе „Певучий осел“, переосмыслив все гендерные предписания символизма (сакрализация женственности и т. п.), перемешав мужские и женские маски в карнавальной стихии. Эти две пьесы должны, конечно, рассматриваться, как дилогия, но дилогия особого свойства, когда ее составляющие отрицают друг друга. Зиновьева-Аннибал высмеивает, переворачивает, опровергает все идеи Иванова — и о дионисийских экстазах, и о преодолении границ индивидуализма путем создания тройственных (а в перспективе и состоящих из большего числа участников) союзов.