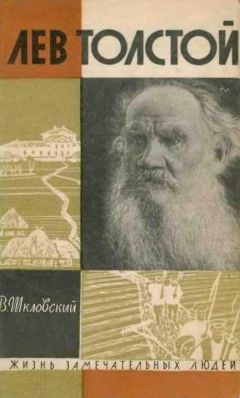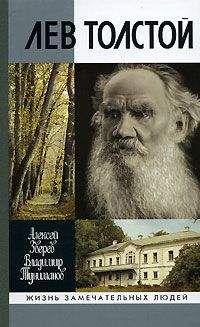Михаил Новиков - Из пережитого
Демидов дал его Булгакову для прочтения от крышки до крышки, но прочитать все подряд не было никакой физической возможности. Надо было для этого заниматься им не один день, а целую неделю и поневоле пришлось ограничиться только самым существенным и интересным. Зачитывались интересные показания учителя Радина, который подписал воззвание всей семьей с женой и дочерью, показания Трегубова с резкой критикой войны и затеявшего ее правительства.
— Мы не затевали войны, — вмешался Демидов, — нас на это вызвали другие!
— Хоть бы здесь-то, полковник, не говорили этой официальной неправды, — сказал Булгаков. — Ну кто же не знает того, что ни одно правительство не признается в этом и валит вину на других. Выходит, все правы, а виноваты солдаты, которых нужно искалечить и изранить, а за что — нельзя понять.
Загорелся спор о причинах войны и Душан спросил:
— Ну вы, полковник, скажите: почему было бы хуже России, если бы она не объявила мобилизации и не дала повода немцам к объявлению войны?
— Вы забываете о нашей союзнице Сербии, — резко подчеркнул Демидов, — у нас были обязательства!
— Но Сербии не сразу объявили войну, вперед требовали выдать убийц в Сараеве австрийского наследника, — возразил Булгаков, — почему наше правительство не заставило их подчиниться?
— Это унизило бы честь и достоинство России перед другими государствами, — сказал Демидов.
— Но ведь такое понятие о чести — ложное понятие, — сказал я, — вот против этого мы и протестуем. Честь — это понятие отвлеченное, и оно не стоит одной человеческой жизни, а вы ради ней губите теперь миллионы. Самая великая честь — спасать людей, а не губить их безвинно.
— Под вашу мораль не подходит ни одна война, — ответил он мне, — если так рассуждать, нельзя бы было и воевать.
— Да мы только об этом и говорим, полковник, что не надо воевать, — возразил Булгаков, — от войны, как от иного преступления, никому добра не бывает. Зачем воевать?
— Ну, это философия, — сказал Демидов, — а мы живем не философией, а интересами дня и политики. Мы находимся в окружении других государств, которые непрочь расчленить Россию и разобрать по кускам. Мы не должны показывать нашим врагам своей слабости.
— Кому показывать — Бетман-Гольвегу, старику Францу Иосифу? — переспросил Булгаков.
— Всему миру, — отрезал Демидов, — на нас весь мир смотрит.
— Это неверно, полковник, — поправил Душан, — по-вашему, весь мир хочет нашего разорения и смерти миллионам наших крестьян, а он вовсе этого не хочет и ниоткуда этого не видно, все это выдумки политиков, а народ всегда хочет только мира.
— Может, по-вашему, это и выдумка, — сказал Демидов, — а только мы должны считаться с этими выдумками и вертеться как белка в колесе. И пока оно вертится — никто остановиться не может. Были больше вас мудрецы, да ничего не поделали.
— Мы хотели капелькой своей жалости подействовать на это колесо, а вы нас в тюрьму посадили, — сказал любовно Сережа Попов, — вы бы не мешали…
— А вы думаете мне приятно вас в тюрьме держать? — сказал Демидов, — мы ведь тоже не звери, положение нас обязывает. Вы бы шли к немцу со своим воззванием, мы бы вам и на расходы дали.
— Мы бы и к немцу пошли, да ведь вы же нас в тюрьме держите, — сказал Сережа.
— Кто к немцу хотел идти, тот не стал бы свои листки на телеграфных столбах в Туле расклеивать, — возразил он Сереже сурово.
— Но в общем вы неправы, полковник, — сказал Булгаков. — Наше обращение могло быть международным, а вы ему помешали. Мы обращались не к русским солдатам, а ко всем людям-братьям, носящим христианские имена. Вам же известно, что оно уже проникло за границу и было напечатано в Чехии.
— Ну кто прав и не прав, — скажет военный суд, а наше дело собирать материал, — закончил он недовольно. — Мы тоже люди и можем ошибаться.
Перелистывая «дело», Булгаков остановился на стихотворении Булыгиной «Письмо к сыну», отобранном при обыске жандармами у кого-то; написанное в сильном поэтическом выражении, оно изображало заранее великую скорбь матери за страдания сына, который должен был отказаться от участия в войне и солдатчине и претерпеть за это до конца жизни все тяжелые муки. Из нас его почти никто не знал. Булгаков спросил Демидова, можно ли прочитать это стихотворение для всех.
— Ваше право знакомиться со всем делом и оглашать все без исключения, только не списывать ничего, — заявил Демидов.
И стихотворение, к радости нас всех, было прочитано. Начиналось оно так:
Приближается грозное время,
Мы с тобою расстаться должны.
Впереди это тяжкое бремя,
Что берешь на себя ты нести…
О, мой сын! мне так тяжко и больно:
Сколько мук у тебя впереди и т. д.
Стихотворение это длинное, на три страницы и, читаемое с чувством глубокого душевного подъема, производило сильное впечатление. Стоявший в дверях часовой так и замер без движения, вслушиваясь в его слова, но Демидов не выдержал, на половине чтения сорвался с места и быстро направился к двери, намереваясь как будто пройти в коридор, и этим без слов заставил его отступить за дверь. Но и сам он сильно волновался, что в его присутствии «преступники» агитируют друг друга и читают такую «ересь», против внутренней правды которой он не может ничего возразить и сам.
— А ведь хорошо написано, полковник, — сказал Булгаков, окончив чтение.
— Уж вы меня-то, пожалуйста, не агитируйте, — резко ответил тот в сильном смущении. И стал нас торопить просмотром дела.
— Вы не в клубе «свидания друзей», — сказал он повелительно, а потому не злоупотребляйте данным вам правом, иначе я его могу нарушить.
Душан Петрович ему мягко и любовно сказал:
— Уж вы, господин полковник, повремените, вы так долго держали нас в изоляции, что за это можно дать нам один день общей радости. Мы вас просим об этом.
Но после прочитанного стихотворения нам уже не хотелось слушать разные протоколы и постановления жандармских властей, нам хотелось говорить, петь, радоваться, тем более что здесь мы в первый раз после года тюрьмы поняли, что наше дело не такое уж страшное и безнадежное, за которое надо было ждать еще суровых репрессий. Ознакомившись с ним, мы увидали, что никакой суд, разбирая его, не может заразиться чувством мести и жестокости, а должен будет считаться и с его внутренней правдой.
Мотивы, побудившие нас подписать воззвание, так были сильно и искренне изложены и каждым в отдельности, что в общем производили сильное впечатление и говорили в нашу пользу.