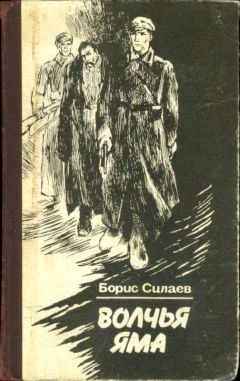Вера Фигнер - После Шлиссельбурга
«Не выходите из вагонов в Сербии», — напутствовали нас друзья при отъезде. «Не берите ничего на станциях», — говорили они. В Сербии в то время свирепствовал тиф; от него гибли целые десятки врачей, а среди населения никто не считал жертв страшной эпидемии. Столица из Белграда была перенесена в Ниш, и про этот город говорили, что в нем буквально по колено грязь. На станциях всюду мы видели следы дезинфекции — белые полосы от поливания известью. Группы подростков сбегались к окнам вагонов, прося хлеба, и мы давали, сколько могли, из своих дорожных запасов.
Великим злом для нас, пассажиров, была опасность набраться паразитов, от них не знали потом, как отделаться.
Да, тяжелое впечатление производила эта маленькая страна, на которую обрушились, кажется, все бичи — война с ее опустошениями, голод и эпидемии. А чем далее на восток, тем общий характер местности становился отраднее. В Болгарии зазеленели поля; следов разорения не было видно, а столица — София — представляла собою вполне благоустроенный европейский город, оправдывая прозвание «маленький Париж».
Что же касается Румынии, то она показалась мне землей, текущей млеком и медом. В ней было что-то пышное, богатое: живописная, несколько холмистая местность; прекрасно обработанные свеже-зеленеющие поля, обилие лесной растительности, — все говорило, что здесь живут сытно и благоустроенно. Но Бухарест… как отвратительна показалась нам атмосфера, царившая в нем! Что за неприятные лица всюду. Когда мы остановились в одной гостинице, где была только мужская прислуга, мы сразу почувствовали себя не по себе, и все кругом было подозрительно и скверно. Мне дали комнату с затасканною мебелью и с как-то особенно неприятной постелью, а молодая Оберучева с ребенком попала в другую такого рода, что не легла спать и всю ночь просидела в кресле. Должно быть, это был скверный дом, потому что, проходя по какой-то галерее, мы видели в открытых внутренних окнах странных, растрепанных женщин. Нравы в городе таковы, что едва Оберучева успела выйти на улицу, как к ней пристал какой-то мужчина, и нам говорили, что ни одна женщина не может зайти в ресторан без того, чтобы не подвергнуться неприятностям от нахалов. Студентка, ехавшая с нами из Бухареста, рассказывала, что учиться там в университете совершенно невозможно, до такой степени наглы местные студенты.
Глава пятьдесят восьмая
Арест
Но вот и Унгены, и весь поезд состоит из возвращающихся русских. Не без тревожного чувства ожидаю я, чем встретит меня Россия — пропустят, как обещал министр Маклаков, или опять начнутся мытарства: арест, тюрьма, ссылка? У входной двери вокзала, направо, стоит жандармский офицер, и каждый из приехавших подает ему свой паспорт. Налево — жандармский унтер-офицер. Когда я подаю свой паспорт, офицер передает его как-то особенно жандарму, и я предвижу, что дело не обойдется благополучно. Во входном зале на прилавках разложен багаж пассажиров: происходит осмотр его. Затем из смежной комнаты поочередно вызывают поименно одного приехавшего за другим, и каждый выходит со своим документом и удаляется, чтоб сесть в поезд. А моего имени все нет и нет. Зала опустела; подле меня остаются только мои спутницы: они ждут, чтобы вместе со мной выйти на перрон.
— Фигнер!
Я вхожу; на столе мой паспорт, и мне говорят: «Вы арестованы». Я возвращаюсь к Оберучевым и говорю:
— Прощайте, я арестована.
Они начинают плакать, но я поцелуем запрещаю это и прошу:
— Оставьте, оставьте! Когда приедете в Петербург, дайте знать сестре в «Русском Богатстве».
Поезд громыхает, и я остаюсь одна. Меня отводят во второй этаж, в комнату, в которую внесен мой сундук, и два офицера начинают обыскивать мои вещи. Один постарше, другой молодой, и этот последний проявляет особенную энергию: он ощупывает каждую вещь, кое-где подпарывает швы и приговаривает: «Где бы тут могли быть протоколы социал-демократического съезда?» А офицер постарше, улыбаясь, говорит: «Вот и мы, пожалуй, попадем на страницы истории!»… Он не ошибся: об одном жалею, что фамилию рьяного молодого сыщика не могу запечатлеть в этих воспоминаниях.
Они ушли, прислав женщину, чтобы осмотреть платье, которое было на мне, и уложить в сундук разбросанные вещи. Всегда навернется что-нибудь смешное: женщина была неопытная, в кармане у меня остался перочинный ножик и пятиалтынный, а когда она нашла среди вещей разбившийся термометр, то сказала: «Позвольте мне взять это — поиграть ребенку». И я всемилостивейше разрешила… Я ночевала в дамской комнате; по другую сторону двери растянулся жандарм, а наутро меня увезли в Кишинев, в жандармское управление, а потом в тюрьму. Опять обыск, и опять перочинный ножик и пятиалтынный остались в моем кармане. Болезненного вида женщина, по-видимому, интеллигентная, услыхав от смотрителя мое имя, промолвила:
— Это знаменитая фамилия.
Отвели меня в камеру; желтый крашеный пол был чист; 3 койки (козлы с натянутым на них холстом) стояли без всяких постельных принадлежностей. У меня было с собой 99 рублей, и я тотчас попросила купить мне чаю и сахару.
— Это невозможно, пока не приедет тюремный инспектор, — сказали мне, — когда он разрешит, мы купим.
На другой день была суббота, инспектор не явился. В воскресенье нечего было и ждать его. По-видимому, здесь было обыкновение примучивать заключенных голодом, потому что и в понедельник он глаз не показал. Женщина-сторожиха принесла было тарелку какой-то отвратительной густой снеди розоватого цвета, но я решила ограничиться черным хлебом. Но маленькая брюнетка, сторожившая заключенных, заявила:
— Я принесу вам от своего.
— Пожалуйста, не делайте этого, — сказала я. — Ни за что не возьму: не хочу подводить вас.
Напрасно! Она все же принесла на блюдце кусочек жареного мяса с картофелем. Я энергично протестовала. Но маленькая женщина, подняв руку по направлению к иконе в углу камеры, сказала:
— Здесь только вы, я да бог!.. Если здесь все правила соблюдать — так жить нельзя…
После ее жеста и милых слов оставалось только покориться. Потом какая-то служащая, вероятно, та, которая производила поверхностный обыск, прислала мне чаю и сахару, а сторожиха вечером мне сказала:
— Завтра я не буду дежурить, а когда приду, принесу вам пирожок из кондитерской.
Как я ни протестовала, она действительно принесла прекрасный слоеный пирожок с мясом, а я попросила ее взять несчастный заблудившийся пятиалтынный и притаившийся в кармане перочинный ножик.
Я хотела послать ей какой-нибудь подарок, когда меня освободят, и взяла ее домашний адрес. Но тревога и усталость всех последующих дней совершенно стерли из моей памяти ее имя и адрес, и я никак не могла потом его вспомнить.