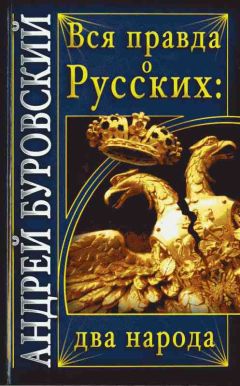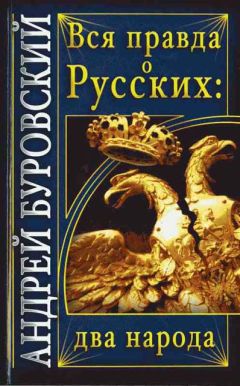Андрей Буровский - Запретная правда о русских: два народа
Старшие из деревенщиков помнили коллективизацию, были свидетелями кошмара, который творился в стране: массовые депортации, раскулачивание, ревтройки, страшный голод начала тридцатых, бегство народа на стройки «городов-садов». Но они были тогда детьми, они если и хотели, то не могли сказать своего «нет».
Кто и кому говорил?Все деревенщики происходят из семей, которые еще в начале XX века относились к числу русских туземцев. В.А. Солоухин может как угодно любить родную деревню, но он духовно принадлежит к русским европейцам… Помимо всего прочего, это и привело его в стан антисоветчиков, полностью не принимающих и личность Ленина [147] и все «социалистические преобразования» 1920—1930-х годов.
Писатели-деревенщики – это два близких поколения, родившиеся между 1920 и 1940 годами. Федор Александрович Абрамов – 1920 года рождения. Виктор Петрович Астафьев – 1924 года. Василий Иванович Белов – 1932 го да рождения. Самый молодой из ведущих деревенщиков – Валентин Григорьевич Распутин – 1937 года. Но и этому «юноше» сегодня к семидесяти.
Основные герои деревенщиков – стары, они очень любят вести повествование от имени стариков и непременно вводят стариков в роли хранителей «лада» и всяческого «порядка». Даже Лидия в рассказе В. Белова про деревенскую собачонку Мальку – и то пенсионерка [148].
Для них очень типичны унылые мотивы конца, обрыва, прекращения бытия, «последних времен». Всегда почему-то получается так, что лучшее уже позади, что что-то очень хорошее прошло, что люди и времена испортились, что чем люди старше – тем они лучше.
Это настроение особенно чувствуется в «Затесях» Астафьева, в «Ладе» Белова, в «Пелагее» Абрамова… Везде. Обстановка конца света, обрыва традиций, гибели обжитого человеческого мира дана в «Прощании с Матёрой» В. Распутина [149].
Автор с огромной художественной силой показывает обжитой, осмысленный человеческий мир, обреченный на гибель потому, что поднимается вода в ложе затопления Иркутской ГЭС. Деревня Матёра стоит на острове Ангары, и она должна уйти под воду. Для жителей Матёры это как Всемирный потоп, как воды океана, поглощающие весь мир людей.
Книга великолепная, художественно сильная и умная. Особо это оговорю. Можно соглашаться или не соглашаться с позицией автора, но во всяком случае это – Литература! С большой буквы.
Всю силу таланта Валентин Григорьевич тратит на то, чтобы показать гибель Матёры как окончательную и бесповоротную гибель. Не как перелом, как испытание, как столкновение людей со слепой силой государства и стихии. Сакё Комацу в своей книге «Гибель дракона» показал смерть ни много ни мало – всей Японии! Мол, сползает она в океан, обречена… «Извивается, умирая, исполинский дракон» – но у Сакё Комацу японцы бегут из Японии. Добровольно бегут, а не погибают вместе с Родиной. Все ужасно, спасутся не все, а спасшиеся прибиваются в чужие страны, от Австралии до Канады… Но у них будет новая жизнь, будет продолжение народа. Часть пафоса книги Сакё Комацу – именно в этом.
…И ничего подобного нет у Валентина Распутина! У него получается так, что человеческий мир гибнет, и на смену ему не приходит буквально ничего. Вне Матёры – полный абсурд, бессмыслица, хаос. И лучше, достойнее умереть на Матёре, чем уйти в пустой, бессмысленный мир горожан.
Откуда у деревенщиков такое сильное, устойчивое ощущение, что лучшее уже позади? Это настроение постоянной грусти?
Наверное, деревенщики понимали или по крайней мере чувствовали – то, что для них жизненно важно – уходит. Всю свою жизнь они видели, как их мир скукоживается, подобно шагреневой коже, уходит на периферию. В этом смысле им выпала на редкость мрачная судьба.
Успех деревенщиков показывает: их книги были востребованы, их настроение по крайней мере не мешало, а может статься, и разделялось читателями. Кем? Для русских европейцев их книги интересны разве что как этнографический материал. Хотя – есть же в интеллигентской среде читатели индуса Тагора и нигерийца Н’круме.
В 1950—1980-е годы русские туземцы уже были уничтожены как народ. Их общественное бытие сломалось, история прекратилась, культура не развивалась и все больше перекочевывала в музеи, а еще больше – в землю. Насколько полно разорвалась связь времен, показывает хотя бы типично интеллигентская охота за иконами, за предметами старого быта. В 1950-е годы толпы туристов хлынули в деревни – и частью даром, частью за сказочный бесценок собрали великолепные коллекции резных деревянных изделий, икон, старинных богослужебных книг. Для стариков это еще представляло ценность, а для сельских жителей становилось попросту хламом.
Владимир Солоухин описывает, как в 1930-е годы иконы из закрытой Ельтесуновской церкви местный учитель рубил топором. Специально, чтоб все видели и понимали, что никакого Бога не существует. Тогда нашлись люди, которые «ночью, ползком, пробрались к учителю на двор, нашли там лик от чудотворной иконы» – иконы Галицкой Божьей матери [150. С. 176–177].
Уже в начале 1960-х в Петрокове председатель колхоза получил закрытую церковь под склад. Должен же он ее освободить? «Нарядил плотников с топорами», они «за полдня все, что внутри, превратили в мелкую щепу» [150. C. 134]. И не нашлось ни защитников, ни спасателей.
В послевоенной России туземцы были стары и уходили из жизни. Но в стране продолжали жить десятки миллионов их недавних потомков. В 1959 году горожане составили 48 % населения, в 1970-м – 56 %, в 1985 г. – 70 %. Типичный россиянин этого времени был горожанином, но этот горожанин имел в деревне близких родственников, и очень часто – бабушек. Причина, по которой речь идет в первую очередь о бабушках, а не о дедушках, проста и печальна – дедушек выкосили репрессии 1930-х годов и война.
Но бабушки, словно сошедшие со страниц книг деревенщиков, – были, и у них проводили если не все лето – то уж наверняка месяц-два. Даже взрослые парни и девицы ездили к родственникам в деревню, часто по несколько раз в год, ловили раков и собирали грибы, стреляли тетеревов и просто гуляли по полям и перелескам.
А среднее поколение было первыми, кто поселился в городе, но выросли еще в деревне. В этом слое полугорожан, не меньше двух третей всего населения России 1950—1970-х, хранилось самое живое, самое непосредственное воспоминание о деревне, жило знакомство с ее порядками, принятие этого неторопливого, спокойного быта с его вековечной мудростью.
Самые старые члены семей таких полугорожан помнили и деревню до коллективизации – в 1960-е годы тем, кто встретил 1917 год 27-летним, было всего 70 лет. Очень многие семьи вовсе не хотели изменяться, не стремились ни перебираться в город, ни становиться русскими европейцами. Их буквально погнали под конвоем. Для них старая деревня и впрямь оставалась потерянным раем, из которого их выгнали насильно. Как выгоняют с Матёры.