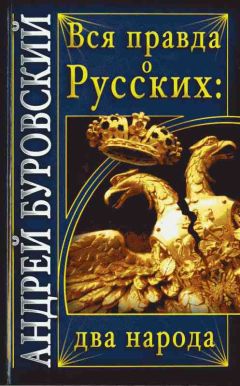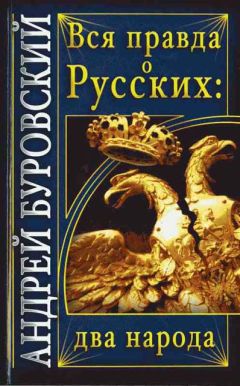Андрей Буровский - Запретная правда о русских: два народа
Считал он себя обязанным писать в том же демонстративно-простонародном стиле, что и интеллигенты, говорящие с новобранцами на «народном» языке. Что и дало основания его любимому ученику Сергею Есенину не особо почтительно отозваться об учителе:
Вот Клюев, киевский дьячок.
Его стихи – как телогрейка.
Но я вчера их вслух прочел,
И в клетке сдохла канарейка.
Рассказывают о Николае Александровиче и такую историю – трудно сказать, быль или все-таки литературный анекдот.
«Клюев всегда принимал гостей в углу гостиной, где сложены вдоль стены друг на друга бревна – как бы имитация избы. Гостей он сажал на лавки, сам в косоворотке, разливал из самовара, и стаканы под чай и под водку всегда грязные. А тут пришли к нему неожиданно, не договариваясь, – он сидит в кресле, в чистую рубашку одетый, пьет кофе и на французском языке газету читает… Засмущался так, газету спрятал, стал матом ругаться и наскакивать:
– Чаво, – говорит, – чаво хочите? Чаёв хочите? Индо чай не доспел, а енти торопыжничають, лезуть!»
И в стихах Клюев позволял себе выражения типа:
Олений гусак сладкозвучнее Глинки,
Стерляжьи молоки Верлена нежней.
А бабкина пряжа, печные тропинки
Лучистее славы и неба святей.
Что небо – несытое, утлое брюхо,
Где звезды роятся глазастее сов.
Покорствуя пряхе, два Огненных Духа
Сплетают мережи на песенный лов [145. С. 67].
И трудно понять, что это: попытка писать на языке туземцев, демонстрация своей приверженности народу или просто обыкновенное литературное хулиганство? Как у Есенина, из стихов которого
Забила
В салонный вылощенный
Сброд
Мочой рязанская кобыла [146. С. 46].
Но при всех этих безобразиях новокрестьянское направление – это уже явление, толща; десятки людей, сплоченных общей судьбой и общим литературным направлением. Правда, единственное бессмертное имя, пережившее эпоху, – имя Сергея Есенина. Но кто сказал, что не могли появиться другие?
Новокрестьянские поэты не противопоставляли деревню городу, а народ – интеллигенции. У них вообще тема деревни обозначена довольно робко. Такое впечатление, что русские туземцы уже готовы что-то сказать миру, но не решаются, не умеют… Или просто не знают, что сказать.
Наверное, нужно было время, чтобы новокрестьянские поэты окончательно ассимилировались… Хотя вообще-то нет никаких признаков их готовности и даже способности к ассимиляции. Скорее возможно другое – появление литературного направления, в котором русские туземцы заговорили бы в форме европейских литературных жанров, но начали бы рассказывать о себе и своих проблемах, проявляли бы свое отношение к миру.
Жанр романа не помешал Рабиндранату Тагору остаться индусским писателем народа бенгали, а в 1960-е годы романы стали писать и жители Западной Африки.
Судьба русских туземцев оказалась трагичнее нигерийцев и бенгали – никто так и не признал за ними права сказать о себе. После ареста Клюева кружок этот распался, судьба его членов трагична.
Писатели-деревенщикиВ 1960-е годы появился термин: писатели-деревенщики. Вообще-то о деревне немало писали Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов, Иван Тургенев… Но слишком уж очевидно – они не имеют к этому явлению совершенно никакого отношения.
Деревенщики – это совершенно конкретные имена людей, работавших тоже в очень конкретную эпоху. До Второй мировой войны такое явление не могло бы сформироваться: вряд ли можно было писать о деревне искренне, с сыновними чувствами, и одновременно воспевать «революционные преобразования». Воспевать получалось у М. Шолохова в «Поднятой целине» – но в его книгах не было и не могло быть теплого отношения к крестьянскому быту. Шолохов – советский казак, которого в его родной станице Вешенской звали «барин», – так он отличался от односельчан.
Деревенщики ощущали кровную, утробную связь со старой деревней, с сельским бытом и укладом. Они откровенно противопоставляли его городскому, интеллигентскому, и последовательно считали деревню лучше, благороднее, душевно чище и выше, чем город.
Часть русских европейцев – и дворян, и интеллигентов – тоже считали народ хранителем неких высших ценностей, а крестьян – стихийно добродетельными людьми. Но у писателей-деревенщиков эта идея выражена с предельной обнаженностью, поднимаясь до уровня войны двух разных цивилизаций.
Не всякий народоволец так рьяно доказывал бы, что в горожанине мертвый перетягивает живого, а вот деревенские люди инстинктивно знают некие высшие истины, и потому очень высоконравственны, честны, порядочны, духовно совершенны.
Город для деревенщиков выступал своего рода коллективным дьяволом, растлителем чистой деревни. Решительно все, шедшее из города – даже медикаменты или орудия труда – казалось им какими-то хитрыми ухищрениями, чтобы разрушить изначальную благодать сельской жизни. Лучше всех выразил эту идею «просвещенный почвенник» Солоухин, которого только по чистому недоразумению можно зачислить в «деревенщики». Но лучше всего сказал именно он, порождение тлетворного европеизма: «Нетрудно заметить, что каждое из благ цивилизации и прогресса существует лишь для того, чтобы «погасить» какую-нибудь неприятность, цивилизацией же порожденную. Великие блага – пенициллин, валокордин, валидол. Но для того, чтобы они воспринимались как благо, увы, нужна болезнь. Здоровому человеку они не нужны. Точно так же и блага цивилизации» [34. С. 12].
Такая позиция в 1920—1930-е годы никак не могла быть выражена вслух: одной из главных идей большевиков было как раз превращение России из страны аграрной в индустриальную. И в 1920-е годы наверняка были люди из русских туземцев, которые так думали, – но их слова не дошли (и не могли дойти) до нас.
Если бы деревенщики писали в эти десятилетия – они или лгали бы, или погибли. Но говорить о царившем в деревне «ладе» им бы никто не позволил. А сами они сгинули бы в Нарымских болотах или на Колыме за «идеализацию патриархальщины», «пропаганду чуждых взглядов» и «поддержку кулацких мятежей». В те годы расстреливали и ссылали куда за меньшее.
Деревенщики появились, когда коммунистическая идеология была еще сильна – но уже прошла свой высший пик и начала клониться к упадку. Уже многое разрешалось или молчаливо допускалось, уже стало «можно» хоть в чем-то быть самим собой, не так услужливо изгибаться вместе с линией партии.
Старшие из деревенщиков помнили коллективизацию, были свидетелями кошмара, который творился в стране: массовые депортации, раскулачивание, ревтройки, страшный голод начала тридцатых, бегство народа на стройки «городов-садов». Но они были тогда детьми, они если и хотели, то не могли сказать своего «нет».