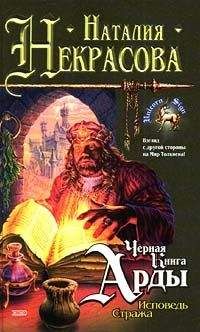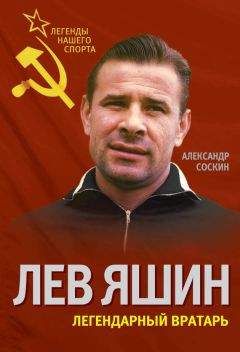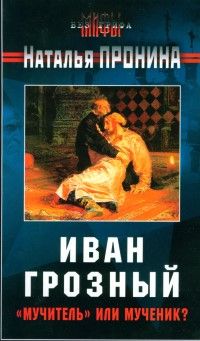Лев Копелев - Мы жили в Москве
— Я счастлив бесконечно.
Корней Иванович рушится острыми коленями на асфальт и берет тоном выше:
— Нет, это я счастлив, и куда бесконечнее.
Его тщетно пытаются поднять.
Андроников двигается навстречу, семеня коленями. Корней Иванович спешит к нему тем же способом. Они обнимаются, восторженно восклицая:
— Нет, это я!
— Нет, это для меня честь!
— Это вы…
— Нет, это вы…
И, наконец, бережно поднимают друг друга. Окружающие хохочут. Андроников, утирая потное лицо, жалуется:
— Его не переиграешь! С кем я связался?!
Корней Иванович протягивает кепи:
— А вы что бесплатно смеетесь? А ну, давайте раскошеливайтесь сиротинкам на чекушку!
…Мы пришли примерно через неделю после его возвращения из Англии.
— Вот кто еще не видел моей мантии. И шапочки. Нет, уж нет, рассказы потом.
Он быстро взбежал наверх и через минуту появился в серо-красной оксфордской мантии и докторской шапочке с плоским квадратным верхом. По лестнице он спускался вприпрыжку.
— Ну, каков!
Охорашивался, вертелся, требовал восторгов.
— Вот он, сэр доктор Чуковский!
И несколько раз подпрыгнул на месте.
Отнес мантию наверх. А через полчаса пришли новые гости, и все повторилось.
На людях он был и казался веселым, насмешливым, озорным. У себя дома с гостями, в кабинете или в саду, на улицах Переделкина, в Доме творчества был средоточием оживленных слушателей, которые либо молчали, стараясь не пропустить ни слова, либо смеялись.
Однако тот, кто оставался с ним наедине, видел другого Чуковского серьезного, печального. Но только наедине. Стоило войти третьему человеку, он мгновенно менялся. Либо с наигранным пафосом восклицал:
— Ах, вот кто к нам пожаловал! Каким счастливым ветром вас принесло?!
Либо сердито напускался:
— Не подходите к столу! Я знаю, знаю, книжки воровать будете. У нас ведь украсть книжку не считается грехом…
Либо менял разговор, резко переключая тональность.
На людях он бывал лектором, наставником, артистом. Уже два-три человека становились зрительным залом.
Наедине он беседовал. Мог долго рассказывать, но и долго слушать, расспрашивать.
Р. Я подарила К. И. свою книгу об американской литературе «Потомки Гекльбери Финна» (1964). Он прочитал и говорил мне серьезно и строго:
— Умеете писать, но мало сказали о художественных особенностях. Какое мне дело до политических взглядов Сарояна или Хемингуэя. Не более интересно, чем их взгляды на чайник или облака. Важно, что внес каждый из них в художественную сокровищницу. Вы владеете таким оружием, как слово. И вы должны писать именно о слове… Трудно? Конечно, очень трудно. Первую статью об Уитмене я написал шестьдесят один год тому назад. С тех пор многое изменилось. Великолепно теперь переводят наши молодые. Старые переводы сегодня выглядят, как бревна. Хорошие переводчики для русского слова делают больше, чем многие бездари с их «оригинальными» произведениями.
Гуляя с Корнеем Ивановичем, я рассказывала ему о необычайно многолюдном собрании московских писателей. Пришли даже Паустовский и Эренбург. Выбирали правление шумно, горячо споря. Тогда у нас еще действительно выбирали.
— А вот я дожил до таких лет, потому что я никогда не ходил на собрания. Всегда считал, что главное — написанная строка. Только так мы можем противостоять ИМ… Василий Смирнов страшен потому, что действительно верит, будто этот балаган кому-то нужен. Но и вы, к сожалению, тоже в это верите. Чем весьма осложняете вашу жизнь и вашу работу литератора… А я с самого начала знал, что они лгут. Всегда лгали и теперь лгут. Сейчас японцы показывают, что можно сделать при так называемом свободном капитализме. Наши правители должны бы стать на колени на Красной площади и закричать: «Простите, православные, за все, что мы натворили!» Но они продолжают лгать… Все ваши собрания — это борьба за трамвайную правду. Какая разница, кого выберут московские писатели, если наверху ничего не меняется…
Тогда я впервые увидела и услышала его таким. Он говорил серьезно и печально.
— Для вас это неожиданно? А я всегда знал, что у нас балаган. Недавно заглянул в Ленина, — мало кто у нас его действительно читает. И я убедился: ни одного живого слова, ни развития стиля, ни развития мысли.
Я пыталась возразить, говорила о драматизме последних ленинских работ. В них и язык иной, чем в прежних.
— Ну, может быть, самые последние. Но и он не вышел на Красную площадь, не стал на колени, не покаялся. А ведь что наделал! Нельзя было начинать такое в нищей, безграмотной, крестьянской стране. В стране, где мало было интеллигенции. Нет, нельзя!
Л. На прогулке зашла речь о трудностях перевода с родственных языков. Чем ближе язык, тем труднее. Польские стихи умеем переводить, а украинские еще не научились. Корней Иванович внезапно остановился.
— Пастернак гений. Но и ему трудно давался Шевченко. Однако «Марию» перевел прекрасно. Помните?.. Забыли?! Идемте и сейчас же будем читать Шевченко. По-украински.
Он привел меня в дом, достал с полки «Кобзарь», начал читать «Марию». На второй строфе голос стал еще выше. Задрожал, перехватило. Он плакал. Протянул книгу.
— Читайте. Но только без пафоса, по-человечески.
Я читал, а Корней Иванович плакал. Иногда перебивал:
— Повторите.
…Ну, спасибо. Идите. Уходите.
4. «Трест добрых дел»Фрида Вигдорова называла Корнея Ивановича Директором Треста добрых дел.
Когда при нем об этом упомянули, он пожал плечами:
— Злые люди меня просто удивляют. Ведь им самим плохо от злости. А я самый богатый старик на этой улице. Богатый и скупой.
…Мы пришли к нему с младшей дочерью, застенчивой и молчаливой. Корнею Ивановичу она понравилась. Гостей было много. Он достал из шкафа две коробки конфет: одну отечественную, а другую — подарок из Америки.
— Американскую конфету — только Машеньке. А вам и этого достаточно.
Все посмеялись, но он поступил именно так: угостив окончательно смутившуюся Машу американской конфетой, он тщательно спрятал коробку.
«…У Корнея Ивановича было несколько друзей и знакомых, которым он считал своим долгом ежемесячно помогать деньгами», — вспоминает секретарь Клара Лозовская.
В то время когда его коллеги, столь же или еще более богатые, устно и письменно клялись в любви к читателям, к народу, он, ничего похожего не возвещая, на свои средства построил библиотеку для детей Переделкина и окрестных деревень. 30 октября 1957 года он пишет своим друзьям: