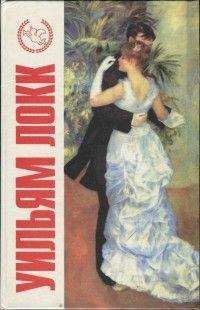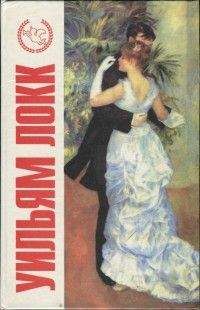Лев Славин - Ударивший в колокол
— До тех пор, — сказал Герцен, — пока народ безмолвствует, по слову Пушкина…
— Ваш Пушкин — великосветский шалопай и пустышка, — буркнул Успенский.
Тут Герцена взорвало. Ему захотелось ударить Успенского. Или выгнать. Он сдержал себя. Все равно, почему Успенский болтал о Пушкине — по убеждению или из желания публично покощунствовать.
— Пустышка, по-вашему? — повторил Герцен сквозь сжатые зубы. — Что ж, каждый выбирает Пушкина себе по плечу.
Успенский заметил, что попал в чувствительную точку. Он решил растравить ее.
— Неужели вы не видите, Александр Иванович, — сказал он невинным тоном, смягчая бас, почти учтиво, — что Пушкин поверхностен и безнадежно устарел?
— Я вижу, — отчеканил Герцен, — что вами владеет мечта обывателя: стянуть гения в ту лужу, в которой он сам барахтается.
Успенский досадливо щелкнул пальцами, как бы пытаясь извлечь из воздуха недававшуюся ему реплику. Но воздух ему ничего не выдал.
Он отошел к столу и налил себе водки, выбрал бокал пообъемистее.
— Il a un air de grand distinction[60],— сказала Наталья Алексеевна, подойдя к Герцену.
Когда она хотела сказать о ком-нибудь, что он изящен, она почему-то переходила на французский.
— Чисто женское суждение. А я в каждом ищу человека, — отозвался Герцен сурово.
— Герцен, это невежливо по отношению ко мне!
— Прости… Мне он чем-то напоминает Энгельсона. та же возбужденность, в которой есть что-то истерическое и несомненно наигранное, почти лицедейское, как и у того.
— Ты прав, — сказал Огарев. — И это истерическое роднит его и с нашим Кельсиевым.
— Пожалуй… С той только разницей, кстати очень существенной: Успенский несомненно даровит. А бедный наш Кельсиев, человек в чем-то способный, безнадежно бездарен в литературе и принимает за талант собственную нервозность.
— Быть может, это вообще в человеческой природе.
— Конечно. Но в наших оно с русским коэффициентом, — живо, не задумываясь, ответил Герцен. — Все лучшее и худшее, что есть в русском человеке, есть в Успенском: стихийность, безалаберность, одаренность. В конце концов в каждом из нас есть что-то от Николая Успенского.
— Как ты понимаешь «стихийность»?
— Безудержность. И в святости, и в растленности.
— Неужели нет разумной середины?
— Почему же? Сколько угодно. Ведь и в самой умеренности можно быть неудержимым.
— В этом человеке, — сказал Огарев, глядя на Успенского, наливавшего себе второй бокал, — сидит демон. Его страсть — неприятие. Он «неприятель» всем и всему. Следственно, бездушен. Помяни мое слово — он кончит плохо.
Огарев словно прозревал будущее… Герцен глянул на часы.
— Ветошников уезжает в Гулль завтра с утра, — сказал он озабоченно. — Стало быть, сейчас самое время передать ему письма. Надобно оповестить всех наших.
Так как считалось, что здесь все свои, то разговоры о письмах — хоть и не громко, но и не шепотом — возникали то там, то здесь, то за столом, где закусывали стоя, то у стен, куда удалялись посидеть, захватив с собой чашечку кофе или бокал с вином. Герцен и Огарев поднялись на второй этаж в кабинет.
«Давно не удавалось побеседовать с вами, дорогой друг. В минуту жизни трудную — мы как-то разобщены…» — писал Огарев.
— Николаю Серно-Соловьевичу? — спросил Герцен, заглянув через его плечо.
Он решил не писать ему отдельного письма, а приписать к огаревскому. Пока что он опустился в кресло и закурил сигару.
«…Мне кажется, — продолжал писать Огарев, — что уяснить необходимость земского собора становится делом обязательным…»
Герцен по-прежнему глядел через его плечо.
«…Я думаю, что из всех последних событий вы убедились, что мое озлобление на литературную дрязгу не было слишком пусто…»
— Надо бы, — вмешался Герцен, осторожно отводя руку с сигарой, чтобы не стряхнуть с нее пепел, — что-нибудь о том, чтобы они там не замыкались со своей пропагандой в Питере.
Огарев кивнул головой и продолжал:
«…Если у вас нет корня в провинциях — ваша работа не пойдет в рост. Я даже рад, что Петербург не в силах ничего сделать… Уясняйте цель — провинциям… Рознь верхушек и народа слишком велика, чтобы понять друг друга, и сближение их всего меньше возможно на невской набережной и Марсовом поле; оно возможно только при реках черноморско-каспийских…»
Огарев устало откинулся на спинку кресла.
— Я только несколько строк, — сказал Герцен, придвигая к себе письмо, — у меня сегодня голова болит, не горазд писать. Только о самом главном.
Он быстро набросал несколько строк. Огарев следил за его рукой. Герцен остановился, кинул значительный взгляд на Огарева и решительно приписал:
«…Мы готовы издавать „Современник“ здесь с Чернышевским или в Женеве… Как вы думаете?»
Посмотрел вопросительно на Огарева. Тот согласно кивнул, вложил письмо в конверт, надписал: «Николаю Александровичу».
Внизу в большом зале Бакунин примостился за посудным столиком и заканчивал уже третье письмо.
Кельсиев устроился на подоконнике. Он строчил письмо, которое по торжественности слога впору назвать посланием. Оно предназначалось также для Николая Серно-Соловьевича и содержало намеки на то, что основной столп «Колокола» по-прежнему, конечно, Герцен, но истинной душой «Колокола» постепенно становится… словом, не будем уточнять, сами понимаете, «понеже в руцех моих вся корреспонденция…»
Ветошников упрятал письма во внутренний карман кителя.
— Это лучшее хранилище, — сказал он, улыбаясь, — нас ведь не обыскивают. Да и досмотру не подвергают.
Он попросил Герцена:
— Очень хотел бы иметь на память ваш дагерротип.
— С удовольствием дам, — сказал Герцен, — да он больно велик, в карман не упрячете.
— А я его заверну в «Таймс» и на дно чемодана, под белье. Да нет, еще такого случая не было, чтобы таможенники или полиция нам надоедали.
Герцен подошел к Кельсиеву и обнял его за плечи. Кельсиев просиял: в последнее время Герцен не очень баловал его своей приветливостью.
— Вы нам оказали драгоценную услугу, — сказал Герцен ласково, — мы обязаны вам Ветошниковым, то есть периодической связью с Россией.
Николай Успенский уже в порядочном подпитии уходил не прощаясь.
— Что-нибудь передать хозяевам? — спросил его неизвестно откуда взявшийся Григорий Григорьевич Перетц.
Успенский глянул на него мутными глазами и сказал коснеющим языком, придерживаясь одной рукой за притолоку:
— Герцену пора отпеть отходную, а то и просто прочесть вечную память…