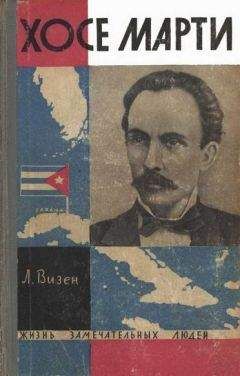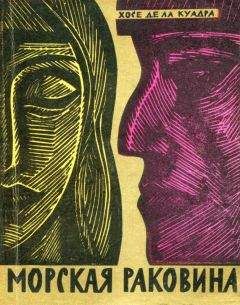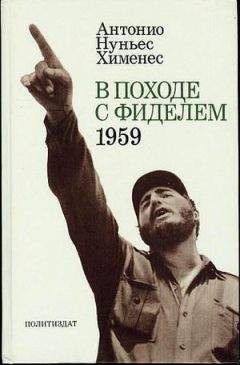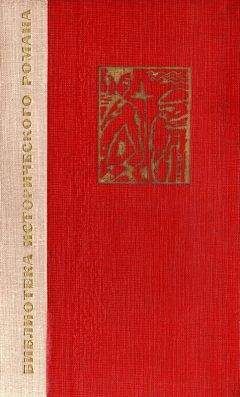Владимир Кораблинов - Жизнь Никитина
Иван Савич подозвал тишанского мужика и спросил про Ардальона.
– Это поп, что ли, молодой? – задумался мужик, словно припоминая, словно речь шла о каком-то мало ему знакомом человеке. – Да он, почесть, и не служил у нас, за него больше Рахваил, тесть евонный, управлялся. А он, Рыдальён-то, значит, тронутый, что ли, глупо́й… Таких делов понатворил – страсть!
– Каких делов? – удивился Никитин.
– Таких, слышь, что и сказать нехорошо, – мужик понизил голос до шепота, – в богов, слышь, из ружья палил… ей-право!
– Что-то, брат, ничего я у тебя не пойму, – сказал Иван Савич. – Верно, путаешь что-то.
– Вот те крест! – забожился мужик. – Заскочил с ружьем в церкву и давай палить… Ну, его, голубчика, – вязать да и в город, а где он тут обитается – брехать не хочу, не знаю…
«Боже ты мой! – ужаснулся Никитин. – Да ведь это в тысячу раз страшней, чем смерть моего Яблочкина!»
Вечером пришло письмо от Николая Иваныча. Конверт был заклеен нерусской маркой, на нем чернела печать французского города Булони.
Итак, исполнилась давняя мечта Второва – побывать за границей. Письмо было восторженное, полное ярких впечатлений от увиденных новых мест, новых людей, иного, не русского, разумного порядка. Все восхищало его в старом французском городе: узенькие кривые улички с выщербленными столетиями камнями мостовой, наполеоновская колонна, воздвигнутая в честь булонского похода, древняя крепость и крепостные бульвары, стук деревянных башмаков – сабо, веселая вежливость извозчиков.
Но больше всего, конечно, море, голубой океан, простирающийся в таинственную безбрежность; ночные огоньки судов, уплывающих куда-то, может быть, в Америку; длинный луч маяка, словно гигантской шпагой пронзающий темно-синюю завесу очаровательной южной ночи…
«Если бы вы, душенька Иван Савич, увидели это чудесное лазурное море, – восклицал всегда сдержанный в проявлениях чувств Второв, – вы поняли бы, как хорош божий мир, как хороша жизнь!»
Иван Савич вздрогнул: за стеной загремела поваленная табуретка, послышался пьяный окрик отца и жалобный шепот Аннушки, умолявшей его не шуметь, пожалеть сына.
– Заснул, кажись, успокоился… Ему доктор покой велит, да где ж тут с вами покой!
– Покой! – смешно, гундосо передразнил Савва. – Покой… Ну, и чума с вами, к примеру, со всеми! Монахи треклятые, навязались на мою шею, прости господи…
Эй, чувиль, ты мой чувиль,
Чувиль, на-виль, расчувиль! —
дико заорал он, уходя, и так хлопнул дверью, что зазвенели стаканы в стеклянной горке.
– Расчувиливай, чувиль! – раздалось тише, уже с улицы; затем – чей-то крик, хохот и уже совсем далекая, разухабистая отцова брань: «Я-а вас… матери вашей черт!»
Иван Савич задумчиво положил на стол письмо с заграничными радостями милого Николая Иваныча. Там-то, может, и верно – была другая жизнь: и море лазурное, и величественная колонна, и вежливые извозчики, а тут…
«Тронутый, глупо́й, – вспомнились слова тишанского мужика, – таких, слышь, делов натворил…»
– Ах, да где же эти лазурные моря! – чуть ли не со стоном вырвалось у Никитина.
– Кликали? – заглянула Аннушка.
Иван Савич молча отрицательно покачал головой.
С ночи болезнь усилилась.
«Анналы тишанской жизни»
История не иное есть, как воспоминовение бывших деяний и приключений добрых и злых.
В. Татищев.Бог знает, с какой давности замечено стариками, что ни первый, ни второй снег не устанавливают зиму, что она начинается только лишь с третьего. В 1860 году она не заставила себя ждать, – в ночь под николин день зимний плотный снег покрыл всю Российскую империю.
Строгие, величественные в своей беспредельности, лежали воронежские, орловские, рязанские поля с большими и малыми селами, деревнями, с черными островками господских усадеб и однодворских хуторов.
Из лесной дачи; цепочкой растянувшись, принюхиваясь, настораживая островерхие уши, вышли волки, побрели, лобастыми башками уткнувшись в пахучий, роняемый волчихой след. Попав на санный путь, полежали у самой поло́зницы, жадно вдыхая запах конского помета. Затем пошли дальше, за волчихой.
Гулкий ветер налетел, уныло вздохнул в корявых ветлах возле деревенских огородов, затрепал причудливые лохмотья летошнего пугала и, осмелев, погнал снежные буруны, принялся заботливо укутывать белым, мягким веретьем скрючившегося в канаве у дороги, притомившегося нищего человека. От мертвого тела ижицей расходился аккуратный звериный следок: близко подкрадывалась лисица, постояла с минуту, разглядывая мертвеца, и, вдруг брехнув, побежала прочь, – очень уж дурной, непонятный запах шел от человека. К нему после и волки подходили, и тоже не тронули: едкий сивушный запах отпугивал зверя. И волки, следуя за волчицей, поплелись дальше.
На их пути, на развилке двух дорог, был покосившийся крест, затем – курган, затем – уродливый остов старого ветряка и, наконец, – господская усадьба, за каменной оградой – большой дом и сердито гудящий верхушками деревьев сад, на краю которого чернела полуразрушенная старая башня. На дворе усадьбы злобно заливались собаки.
Волчиха подумала малое время и свернула в сторону. Все волки побежали за ней к видневшимся невдалеке избам, но у самого въезда в деревню, у кирпичной часовенки, остановились и стали играть.
Затерявшаяся в бесконечных снежных полях, деревня эта была Тишанка. Погруженные в глубокий сон, чернели на белом снегу ее беспорядочно разбросанные избы, окруженные плетнями, на кольях которых виднелись вздетые, похожие на отрубленные головы глиняные корчажки. Улицы и проулки села простирались в разные стороны без всякого смысла и плана: кто где захотел, тот там и строился.
Подобное расположение способствовало живописности села, особенно в летнее время, когда зеленели деревья и в палисадниках расцветали белые и розовые мальвы. Но сами строения поражали своей бедностью и однообразием: в большинстве это были грязные кирпичные, крытые гнилой соломой избы, единственное украшение которых состояло в незатейливых аляповатых меловых разводах между окнами, изображающих елки, кресты и крылатые чудовища, называемые петухами, но более похожие на змеев горынычей, нежели на милую домашнюю птицу.
Шестьсот семьдесят восемь человек мужеска и женска пола, принадлежащих полковнику Шлихтингу, проживало в этих избах, и для полковника они были не более как шестьюстами семьюдесятью восемью ревизскими душами, то есть рабами, которых он мог продать, заложить или обменять на лошадь, на собаку, коляску или английское ружье. Для него все эти населяющие Тишанку люди были как предметы неодушевленные, как некая часть его богатства. Говоря и думая о них, он представлял их себе не людьми, подобными ему и его жене, то есть не живыми существами, наделенными какими-то чувствами, способностями, характерами, а единообразной, лишенной человеческих качеств серой массой, точно так, как в деловых разговорах со своим управителем представлял себе столько-то пудов или возов хлеба, столько-то десятин пахоты или столько-то бочек сала. Он, правда, иных знал по именам или по внешности, но, если по правде сказать, жеребцов и кобыл своего конного завода знал гораздо лучше. В крайней от усадьбы избе, допустим, проживал Нестёрка Золотой, нескладный мужик, зиму и лето таскавший рваный полушубок, а что это за человек – Нестёрка – и какие у него были горести и радости, полковник не имел ни малейшего понятия; но в конюшне, в крайнем от входа деннике, стояла Ворожилиха, игреневой масти кобыла, и про нее он знал все: и когда ей жеребиться, и какова ее рысь, и как у нее заживает ни оттуда ни отсюда появившийся на левой передней щетке мокрец.