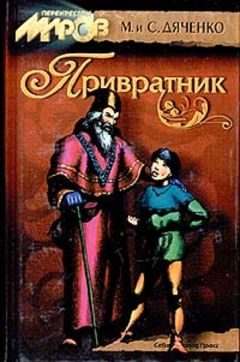Варлен Стронгин - Александр Керенский. Демократ во главе России
Теплоход приближался к берегу, к городу, усеянному высокими зданиями, конца им не было видно, и все отчетливее вырисовывалась статуя Свободы, наверное, той Свободы, которой он, Александр Федорович Керенский, посвятил в России свою жизнь. Россия – не Америка и не Франция – для России демократия – положение новое, не всем понятное и даже нужное, но тот, кто познал свежесть, чистоту и прелесть Свободы, тот не забудет это сладостного ощущения никогда.
Глава девятнадцатая
Америка, Америка…
Александр Федорович сошел на берег, почувствовал под ногами землю и повеселел, не думая о том, что земля чужая, и в Берлине, и в Париже она была чужой, но всегда придавала уверенность ему, в отличие от моря или океана, зыбких и опасных, на которые была похожа русская земля в последние дни его пребывания на родине.
– Вы француз? – спросила у него одетая в специальную форму работница пропускного зала.
– Русский, – ответил он и протянул ей паспорт, выданный ему еще в царское время.
– Бесподданный? – широко раскрыла она глаза. – До сих пор?
– Да, – подтвердил он, – я – русский.
Он знал, куда ему идти в Нью-Йорке. В Питсбургское землячество. Он довольно быстро нашел его помещение и поразился количеству русских землячеств в Америке – Московское, Воронежское, Курское, Саратовское, украинское, белорусское!.. Никто не препятствовал их существованию. Земляки помогали друг другу и не обошли своей заботой Керенского, смотрели на него удивленными глазами, но приятно удивленными.
– Керенский! Неужели это вы?! – воскликнула обаятельная, средних лет дама, ведающая регистрацией новых членов в землячестве.
– Можете потрогать, – пошутил Александр Федорович.
– А что? Вот и попробую! – неожиданно с лукавинкой во взгляде, загадочно и многообещающе произнесла дама. – Вы где остановились?
– Нигде, – растерянно вымолвил он.
– Придется устроить вас у себя! – решительно, не терпя возражений, сказала она.
Александр Федорович понял, что нравится этой интересной даме. Он и раньше не был обделен женским вниманием, но тут, в Америке, в новой стране, симпатия, проявленная к нему землячкой, придала уверенность в себе.
– В вас есть что-то от Распутина, – томно заметила дама, – вы не дали мне уснуть целую ночь… А я думала, что вы автор Приказа № 1, глава Временного правительства, только и всего… А вы… Очень недурны, очень…
Керенский не ожидал, что сравнительно быстро обустроится в Америке, и объяснил это высоким уровнем жизни всего народа – голодающих и пьяниц не встречал. Бедность видел, но не столь удручающую, как в России. Америка пережила Великую депрессию, жуткие гримасы сухого закона, смертельно опасную вражду между белыми и черными, еще до конца не искорененную, но не столь сильную, чем прежде; наверное, американская демократия не была безошибочной, но во главе страны находился мудрый, честный и вольнолюбивый президент – Франклин Делано Рузвельт, который насколько мог, сделал страну демократичной и богатой, где свобода стала реальной не только в виде статуи. Керенский почувствовал свою нужность в этой стране, пусть в среде русских эмигрантов. На большее он и не рассчитывал, но эта востребованность давала ему силы, продлевала энергичную жизнь. Его лекции «Накануне Февраля» и «Февраль и Октябрь» собирали большие аудитории, в разных городах. Он читал эти лекции и в Париже, но там больше защищался от нападок недовольных эмигрантов, считавших, как Зинаида Гиппиус, что он безвольно провалил революцию и допустил к власти большевистскую заразу, а здесь говорил наступательно, не скрывая промахов, но будучи уверен, что выбранный им путь, в главном, в основной своей цели, был правилен и единственен: «Ошибка, если можно так назвать неизбежность, заключалась в том, что, поддавшись, под влиянием Корниловского заговора, новому припадку навязываемой идеи о грядущей контрреволюции справа, вожди советской демократии, заключив в сентябре фактическое перемирие с большевиками, открыли свой тыл опаснейшим и злейшим своим врагам. Сбылось еще майское наше с Церетели предсказание: „Контрреволюция в России перейдет через левые двери!..“
Не таится ли источник пережитых нами великих испытаний и несчастий в чрезмерной нашей терпимости ко всему, что носит левое обличье? Было бы величайшим для России несчастьем, если опять, как в 1917 году, мы вовремя не опознаем под личиной революционной левизны самое обычное реакционное нутро!»
На одной из лекций, из зала донесся упрек раздраженного слушателя: «Вы и ваше правительство топтались на месте. Вокруг земельной реформы. Допустили развал армии. А теперь?»
Керенский побледнел, черты его лица заострились, было видно, что он взволнован, но ответил он незамедлительно: «Да, в медленности восстановления дисциплины в армии военное министерство повинно. Но пусть строгий обвинитель вспомнит, какие препоны пришлось преодолевать нам при этой реорганизации? Не вспомнит ли он, с какой нечеловеческой энергией и самоотвержением приходилось комиссарам военного министра, почти исключительно эсерам и меньшевикам, вырывать армию из-под гипноза большевистской и неприятельской демагогии? Даже в собственной среде мы иногда были бессильны против отражения этой демагогии. А насчет земельной политики приведу мой разговор с Е. К. Брешко-Брешковской. „Вот взял бы вовремя, – говорила она, – знающих, дельных людей, хотя бы того же Х. Он бы за шесть-то месяцев много наделал. С такими людьми успел бы вовремя землю поделить. Все крестьянство и успокоилось бы и за правительство горой стояло. Смелее надо было бы действовать…“ – Ну, помилуйте, бабушка, – отвечал я, – грандиозная земельная реформа, небывалая еще в истории человечества, подлежащая к осуществлению на безграничном просторе Российского государства, не могла быть проведена не только в шесть месяцев, но и в шесть лет. Всякая поспешность под давлением разожженных демагогией аппетитов привела бы к такому земельному хаосу, в котором десятки лет нельзя было бы разобраться. Как перемирие большевиков с врагом превратилось в бесконечную цепь гражданских и внешних войн, так и стихийная социализация земли превратилась в подлинную земельную анархию. Разве я не прав?
На минуту в зале воцарилось молчание, а потом возникли аплодисменты людей, согласных с выводом Керенского. Воодушевленный этим, он продолжал: «Да, армия, земля, мир – это были поистине нечеловеческие задачи, которые должна была разрешить Февральская революция, но делать это приходилось, обороняя страну от жесточайших ударов закованного в броню всей современной техники врага и защищая едва родившуюся свободу от безумного натиска внутренней анархии, шкурничества и измен… Нужно же, наконец, из-за деревьев всех этих переходящих мелочей увидеть самый-то лес, самую суть исторической драмы, закончившейся временной, подчеркиваю – временной, победой демагогической реакции над революцией – единственной, ибо никакой новой революции в октябре не было.