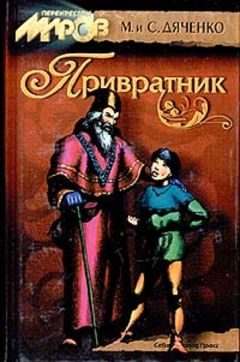Варлен Стронгин - Александр Керенский. Демократ во главе России
Обнимаю Вас крепко, крепко. Память о Нелл будет новой между нами скрепой. А помните последнюю ночь у Вас?!
Ваш всегда А. К.
Кланяйтесь Зайцев, (известный русский писатель-эмигрант. – В. С.) и Маклак. И тем, кто помнит. А Бунин-то!!»
Это последнее восклицание относится к посещению Буниным советского посла. Предположение, что мы все, парижские, скоро окажемся в США, основано на крайне пессимистических письмах В. А. Максакова, в которых он писал Керенскому в Нью-Йорк, что русскую эмиграцию французское правительство (в которое входили в это время коммунисты) может выслать в Советский Союз».
Здесь прервем бесценные воспоминания Нины Берберовой. Восклицание Керенского явно звучит упреком великому писателю, ненавидевшему Совдепию, ругавшему Керенского за то, что он, пусть невольно и благодаря своей «всяческой непригодности», допустил захват страны большевиками, и вдруг сам писатель пожаловал в советское посольство. Хотя Бунин отказался от предложения вернуться в Россию, но факт посещения им посольства СССР показался Александру Федоровичу недостойным, идущим вразрез с принципиальными взглядами писателя. Конечно, Ивану Алексеевичу было по-человечески любопытно узнать, зачем его приглашают в посольство бывшей родины, которая незримо присутствовала в душе каждого эмигранта. В этом отношении показателен случай, приведенный в своем «Биографическом справочнике» Ниной Берберовой. В 1925 году она спросила у прелестной семнадцатилетней девушки Тани Яковлевой (позже ставшей госпожой Либерман), приехавшей во Францию к тетке – оперной певице и дяде-художнику, как ей нравится Париж, на что, подумав, искренне ответила: «У нас в Пензе лучше». Когда через несколько лет Маяковский звал ее в Советский Союз, то она туда не поехала, понимая, что Пенза, из которой она родом, уже не та. Но «та» Пенза, и у каждого эмигранта своя, не исчезала из памяти. И таких эмигрантов, по подсчетам Бунина, было свыше трех миллионов. И Берберова и Керенский знали, что в Париже агентами ГПУ, при участии агента Зборовского был отравлен в больнице Лев Седов – сын Троцкого, выпускавший антисталинский «Бюллетень оппозиции». Муж поэтессы Марины Цветаевой Сергей Эфрон участвовал в похищении генерала Миллера, вместе с мужем известнейшей русской певицы Надежды Плевицкой бывшим генералом Скоблиным, тоже ставшим советским агентом. И Миллер и Скоблин исчезли, а певица за соучастие в этой акции была приговорена к двадцати годам каторжных работ. Эфрон состоял в группе агентов, ликвидировавших руководителя советской разведки в Европе, Игнатия Рейсса-Порецкого, отказавшегося вернуться в СССР, где его, как он догадывался, ждала самая печальная участь.
Александр Федорович напечатал в своем журнале «Новая Россия» (№ 71 от 1 октября 1939 года) открытое письмо Сталину члена РСДРП с 1910 года Федора Раскольникова с описанием жутких преступлений советского вождя. Раскольников, посол СССР в Болгарии, как и Рейсс, был отозван в Москву для расправы, но остался в Париже. После опубликования письма Раскольников при странных обстоятельствах умер в лечебнице, в Ницце. В тот же день бесследно исчезли его жена и дочь. А еще до этого русский человек, четыре года прослуживший у Керенского дворником, похитил у него архивы. Александр Федорович застал его во дворе перетаскивающим мешки с документами из дома на улицу. Застигнутый врасплох «дворник» растерялся, выпучил глаза, а затем, перекрестившись, утащил последний мешок. Александр Федорович рассказывал об этом случае уже в предпоследний год своей жизни советскому журналисту-международнику Генриху Боровику, навестившему его в Нью-Йорке. А тогда, в Париже, не поведал о краже своего архива ни полиции, ни друзьям – боялся мести чекистов. По этой причине он нигде не упоминал свою жену, детей и сестер, опасался навлечь на них гнев советских агентов, разбросанных едва ли не по всему миру. Он и по улицам ходил, непроизвольно оглядываясь, осторожничал в еде. Но были и радости, связанные с успехами русских эмигрантов, их победами на международной арене. Керенский был восхищен Александром Алехиным, ставшим чемпионом мира по шахматам, и готов был повторять вслед за поэтом Дон Аминадо: «Свет Востока занимайся, разгорайся много крат. Гром победы раздавайся». «Раздавайся русский мат!.. Гой еси ты, русский сокол, в Буэносе и в Айре, вот спасибо, что нацокал Капабланке по туре!.. Все мы пешки, пешеходы, ты ж, орел, и в облаках! Как же нам чрез многи годы, несмотря на все расходы, не воскликнуть наше – ах!»
Александр Федорович до эмиграции не был знаком с поэтом и представлял его, судя по его смелым и глубоким стихам, едва ли не исполином. Но, встретив человека небольшого роста, с прижатыми ноздрями, жадно вбирающими воздух, с горящими, все замечающими глазами, нисколько не разочаровался.
– Аминад Петрович, – с улыбкой обратился к нему Керенский, – я ваш давний поклонник!
– Вы? – вскинул брови Дон-Аминадо.
– Я, – просто ответил Керенский, – хотя и понимаю, что свою сатиру, стихотворение «Любителям бескровной и святой» вы, мягко говоря, посвятили мне, но почему во множественном числе?
– Напомните, – попросил Дон Аминадо.
– Пожалуйста: «Я не боюсь восставшего народа. Он отомстит за годы слепоты и за твои бубенчики, Свобода, рогатиною вспорет животы. Но я боюсь, что два приват-доцента, которые с Республикой на ты, …они начнут юлить и извиваться…» Я не обижаюсь, но не понимаю, почему вы не сказали обо мне прямо – один присяжный поверенный… Почему?
– Вы, как присяжный поверенный, не влезали в размер стихотворения. И в симпатиях к республике были замечены многие, в том числе ваш покорный слуга, – мрачно изрек Дон Аминадо. – Но я, в свою очередь, удивлен тем, что вы на меня не обижаетесь. М-да?
– Нисколько! – уверенно произнес Керенский. – Потому что читал другое ваше произведение – «Как не стать республиканцем в чудном городе Париже?!. Там сверкает и играет каждой каплей галльской крови с юных дней республиканец, с колыбели гражданин!» Я назвал Россию республикой, чтобы указать людям дорогу к гражданскому обществу, хотя знал, что Россия еще не Республика, не готова к республиканским порядкам. Не то что – Париж, Франция! И честно признаюсь, я с удовольствием прочитал ваше стихотворение о Шаляпине. Советы лишили его звания народного артиста за то, что он не вернулся в их объятия. Зачем ему это звание? У него есть всемирное имя – Шаляпин! Ни в одной стране мира, кроме Советского Союза, артистам не присваивают звания. Народы сами решают – это их артист или нет, любить его восторженно или не очень. Вы угадали мои мысли по этому поводу, очень смешно у вас получилось: «Известно ли большой публике, что такое народной артист, народный артист республики? И какой его титульный лист? „Бас всея Великороссии, Малороссии и Новороссии, края Нарымского, полуострова Крымского, Кахетии и Имеретии, и более и не менее, как Грузии и Армении…“ Далее, извините, вспомню сам. Да: „…Как это ни странно, певец советский, артист Соловецкий, Донской и Кубанский, рабоче-крестьянский… Утешитель татарский, Великий халат бухарский, радость всякого эскимоса, Переносица Чукотского носа, любимец узбеков и прочих человеков… Так черкните на скользком, на картоне бристольском, что не царский, не луначарский, не барский, не пролетарский… и не мамин, мол, и не папин, а просто Шаляпин. Авось поймут и у бурят, и у якут“.