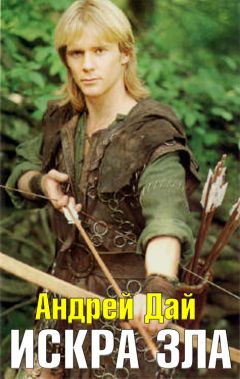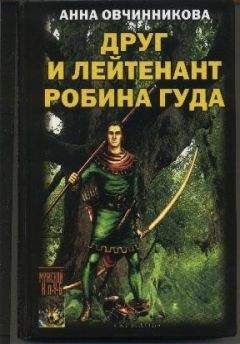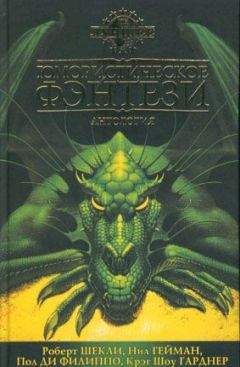Иван Киреевский - Том 3. Письма и дневники
Весь и вечно твой П. Киреевский.
Я уже теперь не в Архангельском, а в Воронках, ровно в версте от Архангельского, куда всякий день хожу обедать. Надеюсь здесь набрать хорошую жатву песен и сказок.
«Беседу» и «Самозванца» брат тебе выслал еще две недели тому назад.
Получил ли ты их?
30. Н. М. Языкову
13 сентября 1833 года
Москва
Хотел было я, мой вселюбезнейший и дражайший, писать к тебе нынче многое множество, тем больше что многое нужно тебе сказать, а разные вражеские наваждения уже давно мешали мне к тебе писать. Однако теперь не успею и должен отложить до следующего раза.
Теперь покуда не хочу пропустить почты, не сказавши, по крайней мере, чего следует об самом важном. Отставка твоя еще не подана, и да не разъяряешься ты на меня за это! Потому что на это были законные причины: во-первых, есть надежда на получение чина прежде отставки, а, во-вторых, я, несмотря на все усилия изучить твою подпись, до желанного сходства никак достигнуть не мог. Я хотел было заставить написать здесь бумагу и послать к тебе на подписание, но все говорят, что в таком бы случае игра свеч не стоила, потому что нет на отставки особенной формы для каждого присутственного места, а только форма всеобщая: по одержимым болезням, следовательно, всякий подьячий и везде написать ее может. И так весь наш государственный совет убедил меня дать некоторое время на производство дела об чине, об котором уже и послано отношение куда следует, а между тем написать и тебе, чтобы ты отставку велел начертать в Корсунском или Симбирском уездном суде, какому-нибудь из членов оного, подписал бы ее и прислал бы ко мне для подания, которое неукоснительно и своевременно исполнено будет.
Однако пора кончить, опоздаю. В следующий раз больше. Покуда прощай. Обнимаю тебя.
Весь и вечно твой П. Киреевский.
У нас все, слава Богу, здоровы, мы возвратились в Москву дней пять тому назад. Все твои комиссии будут исполнены в точности.
31. Н. М. Языкову
Почтовый штемпель 4 октября 1833 года
Я, Иван Киреевский, пишу за Петра Киреевского, который лежит больной и диктует мне следующие слова:
Не приходится тебе сердиться на Петра Киреевского за то, что он не писал к тебе долго, потому что он третью неделю только что переваливается со спины на ту же спину, что тем досаднее, что писать было бы много материи. А вот покуда главные пункты, о которых сказать припомню: о предержащей власти в Межевой канцелярии на этой почте уведомить не успею, потому что твое письмо получил только вчера ввечеру. Настоящим же к тебе пойдет известие. О законных книгах будет к тебе писать брат (это он намекает на меня!). В пансионе Павлова об одежде учеников действительно попечения не имеют. О главной материи, до песен касающейся, надо написать к тебе много и потому лучше подождать того времени, когда мне удастся прийти в положение немножко повертикальнее, покуда скажу только то, что в Воронках я собрал с лишком 200, не считая стихов. Кроме того, стекаются ко мне в руки такие обильные песенные потоки, что уже можно считать за 2000 могущих поступить в печать. Об обстоятельствах печатания буду после с тобою советоваться подробнее. Дать ли Максимовичу из присланного тобою собрания песен пяток в его «Денницу»? О Толстом напишет Иван. (Это брат пошутил, я Толстого почти не знаю). Вот все, что нужно было сказать самонужнейшего. Затем посылаю тебе рукопожатие и остаюсь целиком (хоть и с изъянцем), твой Петр Киреевский.
Теперь следует к тебе послание от Ивана:
Здравствуй, брат Языков. Как поживаешь? А у нас плохо. Брат болен и был болен опасно воспалением в почке. Теперь опасность вся прошла и остается только неприятность лежания и медленного выздоровления. О книгах я говорил с Селивановским, у которого теперь их не имеется, но на днях они должны поступить из Петербурга и отправиться в Симбирск к какому-то купцу, к которому тогда вышлется тебе письмо, по которому кто-нибудь из твоих знакомых в Симбирске и получит книги. Вместе с тем же письмом получишь ты и остальные деньги, а вместе с теми книгами получишь ты еще ту книгу, которую наконец достал Армфельд[359], который не только решился купить тебе книгу (через два года), но еще решился написать диссертацию и защитить ее самым блестящим образом. О чине твоем я теперь еще ничего сказать тебе не умею. Я писал тому больше месяца к Вяземскому, но от него еще никакого ответа не получал. Я считаю это за хороший знак. По следующей почте получишь ты подробную инструкцию о том, что тебе делать и какие просьбы писать и как. О Толстом я тебе ничего сказать не могу, потому что почти что не знаю, а так как непременно хотят, чтобы я писал об нем, то и скажу тебе, что он действительно (чтобы говорить твоими выражениями) служит в архиве, что там нам как-то не удалось познакомиться, что после я видел его у Тютчевых, где и узнал от него, что он на театре, и от других, что он играет хорошо. Кроме того кажется, <неразб.> нам не имеется, он никогда не слыхал об нем ничего дурного. Тебе кланяются Свербеевы, которые в Женеве и едут в Рим. Шевырев сделался профессором здесь, едет в Петербург на житье. А ты когда в Москву?
На следующей почте буду писать еще.
32. Н. М. ЯЗЫКОВУ
14 октября 1833 года
Москва
Знаешь ли ты, что готовящееся собрание русских песен будет не только лучшая книга нашей литературы, не только одно из замечательнейших явлений литературы вообще, но что оно, если дойдет до сведения иностранцев в должной степени и будет ими понято, то должно ошеломить их так, как они ошеломлены быть не ожидают! Это будет явление беспримерное. У меня теперь под рукой большая часть знаменитейших собраний иностранных народных песен, из которых мне все больше и больше открывается их ничтожество в сравнении с нашими. В большей части западных государств живая литература преданий теперь почти изгладилась; только кое-где еще, и в совершенно незначительном количестве, остались еще песни, но обезображенные и причесанные по последней картинке моды; большая часть из известнейших народных песенников составлена там не по изустному сказанию, а из различных рукописей, и, что всего важнее, мне кажется можно доказать, что живая народная литература там никогда не была распространена до такой степени, как у нас. А из этого, если точно удостовериться, могут быть важные выводы. Но об этом после, когда мне удастся хорошенько вникнуть в эту материю.
Вот покуда интересное сближение известных мне западных песен с нашими в количественном отношении: известнейшее собрание шотландских песен Вальтера Скотта содержит в себе 77 нумеров, собрание шведских песен, которого количественному богатству немцы дивятся, которое издано их знаменитым историком Гейером вместе с Афцелиусом и переведено на немецкий язык, заключает в себе 100 нумеров; датское собрание Ниерупа, которого я не видал, судя по всем известиям об нем, едва ли далеко его превосходит в количестве; французской истинной народной песни, по свидетельству Вольфа, долго занимавшегося их опубликованием, теперь нет ни одной; итальянское собрание, изданное тем же Вольфом и (что довольно странно) в поэтическом отношении очень бедное, заключает в себе нумеров 100 песен и припевов на всех итальянских наречиях; испанских собраний, мне известных, есть два: Гриммово и Деппингово, они выбраны из испанских песенников, напечатанных еще в XVI веке по преданиям, и тогда уже почти исчезнувшим, а из этих песенников, по словам немецких издателей, они выбрали почти все истинно народное; остальная их часть заключает в себе такой же сор, как большая часть нашего новиковского песенника. Из этих двух собраний (правда, очень высокой поэтической цены) одно заключает в себе 68, другое около 80 нумеров. Англия известна бедностью в песенном отношении, а Бюшингово маленькое собраньице песен немецких, которого я не видал, также славится своим ничтожеством.