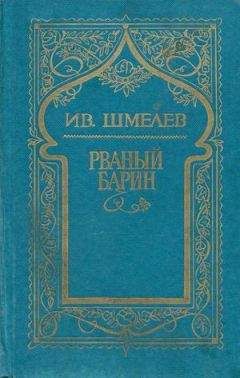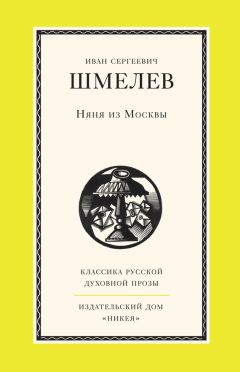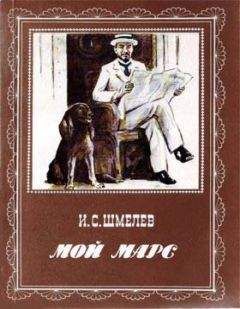Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание
Она решилась отправить ему это поэтическое признание только 6 октября, но и в ее сентябрьских письмах он уже почувствовал зарождающееся чувство к нему. И он тоже понял, что любит…
Простите, милая, простите… о, прости, мой Ангел, как я нежно-свято люблю Вас, Оля моя… славяночка моя — царевна! Замученное сердце полно последним жаром, все оно горит непостижимо, так нежданно… я же давно его утратил… — мне казалось так! Я недостоин, я не смею, — вот мое твердое признание: я не смею, я кощунствую, я — пусть изнемогаю от «огня», — нет, я не смею. А теперь… читаю Ваше письмо… я не смею верить… но я читаю, я знаю, как Вы чисты, как Вы правдивы, как недосягаемо правдивы! — я… я для Вас не только автор… я для Вас и живой еще..! Вот, моя гордыня… ви-дите? где же гордыня-то..? я взгляда вашего не стою… так я себя скрепляю… тушу огонь свой… в мыслях оскорбить страшусь… О, несказанная… я так растерян… все во мне мутится, — Боже, это Ты говоришь? Не Темный это льет в душу мою свет… Твой это свет… в мои потемки… Да ведь Ты, Ты, Господи… все, все, так все направил, так ясно показал слепым глазам… — так все начертал… Когда смотрю на эти годы, на это откровенье с неба… на этот «случай», на мой вскрик, на скорбь Вашу, далекую, в день Вашего Рождения… на эту книжку… на эти 9 мес. «разлуки», внешней только, и как зрел плод… во мне зрел, и я чувствовал, как зрел он… эти девять месяцев разлуки я был светел… это был свет в сердце… это был шепот воскресавших надежд, возвращаемых утрат… когда все вижу… — Ты, Господи, жизнь мне возвращал… — а я, видите ли… я все не верил, я страшился омрачить сердечко Ваше… Как я Вас люблю..! это нельзя измерить, у меня нет мерок слова теперь в этом, слова мне непокорны… разбежались… истаяли и потускнели, мои слова, покорные мои рабы… творцы! Девочка моя светлая, как я люблю тебя, как нежно гляжу в твои глаза… как пальчики твои целую… я плачу, я не могу больше говорить… ничего не вижу, вот пишу… Прости меня, прости, родная, мой Бог, моя нетленная, ласточка… ты залетела в мое сердце, ты, и как там неуютно… ну, побудь немного, я так счастлив… ну, умчишься, но ведь ты была в нем… — это безмерность счастья для меня… это величайшая, слепящая награда, не по заслугам… это щедрость Бога, это твое великодушие, это — кровь твоя, родная… только потому все это… Мы так похожи, до… оглушенного «непониманья»![504].
Он признавался ей, что так никогда еще не любил. Письмо написано 20 сентября. В этот же день она ответила ему письмом, в котором призналась, что грустила о нем, а 23 сентября — о том, что полюбила его: «Да. Я люблю Вас тоже. Давно, нежнейше и полно, и свято! Люблю»[505].
Не встречаясь, общаясь лишь эпистолярно, они нуждались друг в друге. Шмелев по ее умным и светлым письмам создал образ, к которому обратил свою любовь, и она это понимала. Опасаясь разочаровать его, предостерегала: у меня скверный характер, я не богиня, могу быть неприятной… Возможно, она была влюблена в явление по имени Шмелев. Он знал, что внешне давно уже не привлекателен, писал ей о том, что некрасив. Знал, что женщину влечет к мужчине не только внешность и не только физическое общение. Понимал, что сила дарования в мужчине притягательна. Во время публичных чтений он замечал обращенные на него страстные, благодарные женские взгляды. Он позже признавался Ольге Александровне, что, раздражая своим дарованием чувственный инстинкт женщин, осознавал их готовность отдаться ему духовно и телесно. Но после гибели сына он ни разу не изменил жене.
К О. А. Бредиус-Субботиной он испытывал чувство, которое сам называл нестеровским. И страсть — и поклонение, и нежность — и любовь умственная. В ее же любви было больше преклонения.
24 сентября он предложил ей стать его женой — законной. Как он выразился — брачной. Она не могла с такой же стремительностью принять его предложение: у нее — муж, и он человек прекрасный, в нем нет грубой силы, он любит Россию, а еще Бредиусы — авторитетный в Голландии род и так просто развестись не дадут… С мужем расстаться не может, но Шмелева любит «безумно, до смерти, исступленно»[506], зовет его в Голландию — и все ему отдаст, что в ее сердце, и не считает это грехом — ведь она нежность свою ни у кого не отнимает, ведь на нежность ее никто и не посягает… Грехом не считает, но лгать тяжело. Она встречает почтальона на пороге, забирает письма Шмелева и объясняет дома, что это… так… писательская поэзия, перед которой она преклоняется. Шмелев же, не замечая сложности ее положения, запрашивает ее о любимых духах: ландыш? грэпэпль?
Невольно он переносил на свое отношение к Ольге Александровне все то, что когда-то перечувствовал и пережил с женой. Он описывал ей запахи, любимые его женой: «Я любил, когда она тихо подойдет, а я пишу, ни-чего не слышу, хоть пожар, — не вижу, — и… на голову мне — накапает грэпэплем… я не слышу, потом — запах бросает меня куда-то… и я прихожу в себя»[507]. Ему горько от мысли, что этого никогда не повторится с его новой возлюбленной. Шмелев мечтал пожить с ней в монастыре Саввы Звенигородского, под Москвой. Еловые белые полы… всенощная… молитва… прогулки на лыжах, горячие просфоры, жаркий кагор… монастырская еда — блины, московская солянка, осетрина… Там в 1912 году он жил с Ольгой Александровной и Сережей три зимних дня. Сравнивая свое отношение к жене и Ольге Александровне, заметил: раньше он любил, теперь сознает, как любит.
Он желал встретить в Субботиной не только женщину, в которой воплотились бы черты и привычки его жены, Ольги Александровны, но и писательницу. Ситуация весьма узнаваемая — ведь и талант Галины Кузнецовой тоже развился под влиянием Бунина, в ее прозе он и описан, ее образы напитаны бунинским видением жизни. О, это желание сотворить свою женщину, развить в ней свой творческий акт… В Шмелеве вспыхнула надежда на то, что Ольга Александровна, несомненно, творчески одаренная натура, что она начнет писать — и он передаст ей свои сюжеты, например о крымской жизни, свои мысли, научит ее мастерству. И он учил ее спокойному тону, умению «скрывать совсем свою душу» и при этом быть предельно искренней, убирать все лишнее из текста, не относящееся к сути дела, не допускать, вслед за Достоевским, красивостей, крика, излишних пейзажей; увы, это часто встречается у Бунина — «право… ни к селу, ни к городу». Самый замечательный пейзаж — у Чехова, в восьмой главе «В овраге», когда Липа несет своего мальчика: «Это — лучшее во всей мировой художественной прозе. И — какая простота! Бунину здесь до чеховской щиколотки не подняться: ему трагическое — никогда не удается»[508], — писал он Бредиус-Субботиной.