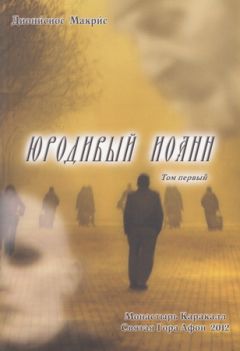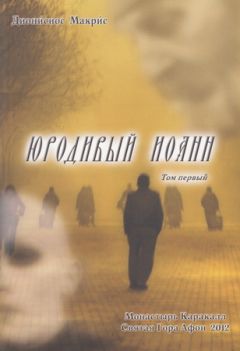Григорий Зумис - Люди Церкви, которых я знал
Он никогда не выставлял себя перед нами, тогда ещё детьми, старым святогорским монахом и многоопытным старцем. Он всегда принимал нас со смирением, уважительно, а главное, с любовью, с истинной любовью. В этом человеке не было ничего наигранного. Его улыбка была искренней, а не притворной, она выражала сердечную радость. Он не был таким, кто в лицо говорит одно, а за глаза другое. Когда мы бывали у него, нам приходилось быть свидетелями многих замечательных сцен. Всякий раз, когда мы приходили к нему в каливу, он накрывал на стол. Желая поесть вместе с нами, он часто откладывал время своей обычной трапезы. Его обычной пищей были сушёные кальмары, свежий лук и укроп.
Однажды я позвонил ему по телефону, хотя я и не в ладах с этим аппаратом.
– Как поживаешь, отец Евдоким?
– Смиряю себя, чтобы приобрести брата моего.
Вот что мы должны постоянно хранить в своём сердце: «Смиряю себя, чтобы приобрести брата моего».
Отец Евдоким и монах Игнатий в действительности не были старцем и послушником, так как второй был пострижен в другой келье. Когда умерли его старцы, он ушёл в келью к отцу Евдокиму, чтобы не оставаться одному. У отца Евдокима и монаха Игнатия были разные привычки, разные нравы. Совместная жизнь неважно где, в семье или в монастыре, есть настоящее мученичество. Первое, что требуется преодолеть, – это собственное своенравие, то, что у монахов называется самостью. Мы должны постоянно себя смирять, ежечасно «грызть землю», как будто нам нужно ужиться с дикими зверями, и тогда мы будем жить с другими в мире, какими бы они ни были. Это мученичество, а одновременно и таинство совместной жизни людей, происходящих из разных мест и получивших разное воспитание, я за свою жизнь видел много раз, и всё больше убеждаюсь в правоте этого утверждения. Отцу Евдокиму было непросто с монахом Игнатием, уроженцем Фасоса[261], но он жил с ним в мире, повторяя себе это изречение: «Смиряю себя, чтобы приобрести брата моего». Он говорил это без вздохов, всегда с приятной улыбкой на лице.
Он никогда никого не осуждал и не смущал наших мыслей сплетнями о каком-нибудь нерадивом монахе. В то время, когда его монастырь, Ватопед, ещё не был киновией, мы все поливали его грязью, а наш дедушка Евдоким – никогда. Он лишь коротко говорил: «Сейчас нам трудно, но Бог поможет».
Он предпочитал говорить о хороших сторонах того или иного человека, делая это несколько высокопарно и с пафосом, как настоящий уроженец Анатолии, чтобы подчеркнуть их значение. О плохом он просто молчал. Он его как бы не замечал, и только лицо у него становилось печальным. Многословие монахов вызывало у него недовольство, сам он не любил разговаривать. С болтливым монахом он старался не общаться: «Он хороший, только много говорит». Но когда кто-то заходил к нему в келью, то он не давал гостю понять, что разговоры его утомляют, и сам предлагал: «Вот хорошо, что ты зашёл, давай поговорим». Выразительными были не только его слова, но и присутствие, и само его бытие. Чаще он говорил одним своим видом, а не словами. Как-то он пришел в наш монастырь в Субботу Акафиста. Первую часть Акафиста читал нараспев один священник, который постоянно менял гласы: то первый, то пятый… Он успел перебрать почти все гласы, пока не закончил. Я заметил, что стоявшему рядом со мной отцу Евдокиму это совсем не нравится. Его лицо выражало недовольство. Потом начал читать другой священник, тоже с прекрасным голосом и слухом. Когда он закончил, на лице у старца было написано удовольствие: священник читал просто, не меняя гласов. Старец тогда сказал: «Так читали и мы. Так нас научили, так мы и держим».
Отец Евдоким всегда был необычайно кротким. Часто говорят, что мы, безбрачные, люди очень нервные, вспыльчивые, строгие, что мы не умеем контролировать свой гнев. У отца Евдокима ничего этого не было. Он служил тихо и кротко, какой бы диакон с ним ни служил и кто бы ни пел на клиросе. В общении он тоже был очень кротким. С каким настроением он служил в алтаре, с таким же общался с людьми. Он не был двуличным человеком, который в алтаре благоговейно молится, а брату своему хамит. Ко всем он относился с уважением.
Однажды я спросил у него, не нервничал ли он когда-нибудь, на что он ответил: «Не помню».
Когда из его скита кто-то украл котлы, я услышал, как он сказал: «Вот какой хороший человек: оставил и нам кое-что, чтобы мы могли приготовить угощение на праздник. А остальное разве нам было нужно?»
Во время исповеди он всегда был серьёзен, как врач, исследующий больного и чувствующий свою ответственность. После совершения таинства воцарялось полное молчание. Иногда он говорил: «Современный человек, как и древний, тоже борется, но влияние зла на него такое сильное, что он не может с ним справиться. Если Бог лишит нас Своей помощи, то мы все утонем».
Он любил свой монастырь и очень за него переживал. Он любил его больше, чем отчий дом. Слово монастыря было для него словом Божиим, которое нужно было исполнить, чего бы это ни стоило. Всех отцов монастыря он считал серьёзными и достойными уважения. Он ни о ком не судачил, но в каждом старался находить что-то хорошее и хвалил за это. Никого не считал он настолько плохим, чтобы выгнать из монастыря.
Приходя в свой монастырь, где он часто служил седмичным священником, отец Евдоким был неизменно вежлив и учтив, но ему совсем не нравились вопросы, особенно от монахов, о том или ином брате.
«Брат, – говорил он мне, – кто поставил меня отделять плевелы от пшеницы?»
Когда в его монастырь пришло новое братство, то он поначалу пребывал в нерешительности. Он говорил мне:
– Если они будут не очень, то я перейду в твой монастырь. С вами я чувствую себя свободнее.
– Нет, отче, поживи пока на прежнем месте и хорошенько присмотрись к новым людям, а потом уже решай.
Впоследствии он успокоился, увидев, что новое братство растёт, что они, как подобает монахам, любят богослужение и послушание. При каждой нашей встрече он с большим воодушевлением рассказывал мне о том, с каким почтением относится к нему новая братия, об уважении к нему игумена, о замечательном церковном пении. Всё это он считал чудом Богородицы: «Раньше у нас, брат, некому было петь на клиросе, а сегодня храм содрогается от молодых голосов. Разве это не чудо Алтарницы[262]?»
За неделю до его смерти я навестил его в монастыре, где он лежал в келье для больных и где за ним ухаживали. Братья спросили у него, узнаёт ли он меня.
– Да, это игумен Дохиара.
Взгляд его оставался чистым, живым и проницательным. Чистота его взгляда была удивительной. Лицо у него сияло. Если бы кто-то внимательно посмотрел тогда ему в глаза, то увидел бы в них всё, весь подвижнический путь преподобных. Венгерский писатель Шандор Тот, написавший о молодёжи несколько известных книг («Чистое детство», «Десять заповедей» и др.), в одной из них назвал три наиболее прекрасных творения Божия: звёздное небо, спокойные воды озера (у него, наверное, не было перед глазами моря) и чистые глаза младенца. Я, если позволите, добавлю к этому чистые глаза отца Евдокима, да и всякого другого преподобного в его последний час.