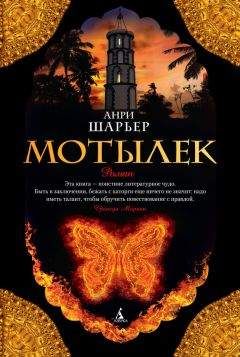Анри Шарьер - Бабочка
— Знаете, что скажут, если вы совершите восстание? Что вы захватили острова, чтобы быть свободными, а не отвоевали их для свободной Франции. Де Голль или Петэн? Не знаю. Я страдаю, как жалкий идиот, оттого, что моя страна, завоевана, я думаю о своей семье, отце, сестрах, племянницах.
— Разве мы болваны и должны заботиться об обществе, которое было к нам так безжалостно?
— «Курицы» и судебная машина Франции — не сама Франция. Это отдельная группа людей с искаженным мировоззрением. Сколько из них готовы сегодня прислуживать немцам? Готов поспорить, что французская полиция задерживает сегодня своих же братьев и отдает их в руки немцев. Повторяю, я не приму участие ни в каком восстании, целью которого не является побег.
Серьезные споры разгораются между отдельными группами. Одни за де Голля, другие — за Петэна. Мы, по сути, ничего не знаем: ни у надзирателей, ни у заключенных нет радио. Новости прибывают к нам вместе с кораблями, которые привозят в лагерь продукты. Трудно понять войну с такого расстояния.
Говорят, что в Сен-Лорин-де-Марони прибыл вербовщик в армию «Свободной Франции». На каторге известно лишь одно: немцы заняли всю Францию.
Забавный случай: на Королевский остров прибыл священник и прочитал проповедь. Он сказал:
— Если острова будут атакованы, вам дадут оружие, и вы поможете защитить французскую землю.
Так он и сказал! Жалкое же было у него мнение о нас! Просить каторжников защищать свои камеры! Да, чего только не бывает на каторге!
У нас война проявляется в усиленной охране; появилось много инспекторов, некоторые из них говорят с ярко выраженным немецким или эльзасским акцентом; стало мало хлеба — по четыреста граммов в день на человека, мало мяса.
Единственное, что увеличилось — это наказание за побеги: смертная казнь. К обвинению в побеге добавляют: «Пытался дезертировать в ряды противников Франции».
Вот уже четыре месяца я на Королевском острове. Очень сдружился с доктором Германом Гюбертом и его женой, исключительной женщиной. Она как-то попросила меня раскопать для нее огород. Я раскопал огород, посадил салат, редиску, зеленый горошек, помидоры и кабачки. Она была счастлива и относилась ко мне, как к лучшему другу.
Этот врач ни разу в жизни не пожал руку тюремщику — вне зависимости от должности — но мне и другим заключенным, с которыми он познакомился и сдружился, он часто пожимает руку.
После освобождения я связался с доктором Германом Гюбертом через доктора Розенберга. Он прислал мне фотографию из Марокко, на которой сняты он и его жена. Когда он вернулся, он поздравил меня с тем, что я свободен и счастлив. Он погиб в Индокитае, пытаясь спасти раненого. Это был человек редкой души, и жена была подстать ему. В 1967 году, когда я был во Франции, мне очень хотелось навестить ее, но я отказался от этой мысли, так как она перестала мне писать после того, как я попросил ее сделать заявление в мою пользу. Заявление она сделала, но больше я от нее не получил ни одного письма. Мне неизвестна причина этого молчания, но в сердце я храню благодарность им обоим за отношение ко мне.
Гибель Карбонери
Моего друга Матье Карбонери убили вчера ударом ножа в сердце. Это подлое убийство совершилось в тот момент, когда Матье находился в душевой, и лицо его было покрыто мыльной пеной. Убил его армянин, сутенер.
С разрешения коменданта я участвовал в церемонии погребения моего друга. Вместе с тюремщиком мы сносим тело на причал. К ногам Матье я привязал тяжелый камень на железной проволоке вместо веревки: чтобы акулы не могли ее перекусить.
Через десять минут мы подплываем к проливу между Королевским островом и Сен-Жозефом. У меня подступает комок к горлу, когда над поверхностью моря внезапно появляются и исчезают десятки акульих хвостов. Они кружат вокруг лодки на расстоянии четырехсот метров от нее.
Боже, сделай так, чтобы акулы не успели схватить моего друга. Весла приподняты в знак прощального приветствия. Поднимают ящик. Тело Матье, завернутое в мешковину, соскальзывает и, под тяжестью камня, исчезает в морской пучине.
Ужас! Я надеялся, что тело ускользнуло от акул, но вот оно появилось, поднятое над морем этими проклятыми хищниками. Наполовину погруженный в воду труп Матье со съеденными руками приближается прямо к лодке, а потом исчезает на этот раз навсегда.
Все, в том числе и тюремщики, сидят с окаменевшими лицами. Впервые в жизни мне хочется умереть. Еще немного, и я брошусь к акулам, чтобы навсегда убраться из этого ада.
Я медленно бреду от причала к лагерю. Никто меня не сопровождает. 7 часов, уже ночь. Небо на западе слабо освещено несколькими языками исчезнувшего за горизонтом солнца. На сердце у меня камень.
К черту! Захотелось увидеть погребение, погребение друга? Ну, вот, твое болезненное любопытство удовлетворено?
Мне остается только ликвидировать парня, который убил Матье. Когда? Этой ночью. Почему этой ночью? Слишком рано — парень будет осторожен. В его группе десять человек. В таком деле спешить не следует. Посмотрим-ка, на скольких людей я могу рассчитывать. Пожалуй, на четверых. Я ликвидирую парня и, если предоставится возможность, перейду на Чертов остров. Там нет ни плотов, ни подготовки — нет ничего. Наполню два мешка кокосовыми орехами и уйду в море. До суши сравнительно недалеко: сорок километров по прямой. С волнами, ветрами и приливами это будет сто двадцать километров. Придется нелегко, но я силен и смогу выдержать двое суток в море верхом на мешке.
Я беру носилки и поднимаюсь в лагерь. У дверей происходит нечто необычное. Меня обыскивают. Тюремщик вынимает мой нож.
— Ты хочешь, чтобы меня убили? Почему ты отнимаешь v меня оружие? Ты ведь знаешь, что тем самым посылаешь меня на смерть. Если меня убьют, это будет по твоей вине.
Ни надзиратели, ни сторожа-арабы мне не отвечают. Открывают дверь, и я вхожу в комнату.
— Ничего не видно. Почему всего одна лампа вместо трех?
— Пэпи, иди сюда, — тянет меня Гранде за рукав.
В зале тихо. Видно, должно произойти (или уже произошло) что-то серьезное.
— Этой ночью он тебе не понадобится.
— Почему?
— Армянин и его друг в уборной.
— Что они там делают?
— Они мертвы.
— Кто их ликвидировал?
— Я.
— Быстро сделано. А что с остальными?
— В их группе осталось четверо. Пауло дал мне слово, что они не тронутся с места, пока не выяснится, согласен ли ты, чтобы дело на этом закончилось.
— Дай мне нож.
— Вот, возьми мой. Я остаюсь в этом углу. Иди, поговори с ними.
Я подхожу к группе. Глаза привыкли к тусклому свету, и мне удается разглядеть четверых, которые сидят у своих гамаков, прижавшись друг к другу.